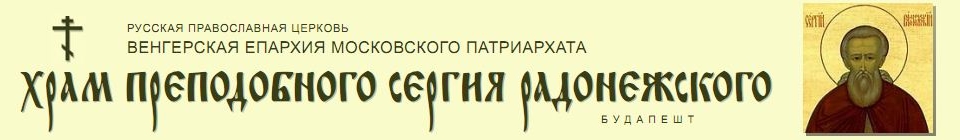ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ПЛАН ПРОЕЗДА
О ПРИХОДЕ
СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ
ХРИСТИАНСТВО
В ВЕНГРИИ
ПРАВОЛСЛАВНАЯ
МИССИЯ В МИРЕ
НАШЕ ПРОШЛОЕ
И НАСТОЯЩЕЕ
МУЧЕНИКИ
И ИСПОВЕДНИКИ
ХРИСТИАНСКИЕ ПРАВЕДНИКИ
ЦЕРКОВЬ
И ГОСУДАРСТВО
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
ВОСПОМИНАНИЯ
И ДНЕВНИКИ
ВСЕХ ИХ СОЗДАЛ БОГ
СОВЕТЫ ВРАЧА
БИБЛИОТЕКА
СТРАНИЦА РЕГЕНТА
ФОТОГАЛЕРЕИ
ДУХОВЕНСТВО ХРАМА
НАШИ РЕКВИЗИТЫ
КОНТАКТЫ
ССЫЛКИ
Сталин и иерархи: встреча в Кремле
Священник Александр Мазырин
В ночь с 4 на 5 сентября 1943 года три митрополита Русской Православной Церкви были вызваны в Кремль к Иосифу Сталину. Результатом этой исторической встречи стало избрание нового Патриарха, воссоздание в Советском Союзе духовных школ и амнистия ряда осужденных священнослужителей. Но действительно ли в 1943-м году Сталин изменил свое отношение к Церкви? И что на самом деле заставило его пойти на уступки?
О том, что происходило во время разговора иерархов и Сталина, порталу «Православие и мир» рассказал священник Александр Мазырин, доктор церковной истории, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
Предпосылки встречи
- Встрече Сталина и иерархов Церкви во главе с митрополитом Сергием предшествовали 20 с лишним лет жесточайшего террора против Русской Церкви. В ходе него она была почти полностью физически уничтожена.
К началу Второй мировой войны от всего православного епископата на весь Советский Союз оставались четыре архиерея на кафедрах и всего несколько сотен действующих храмов. Но затем началась война, и общая политическая ситуация стала меняться.
На оккупированных немцами территориях в массовом порядке открывались храмы, возрождались монастыри, начинали действовать пастырские школы. Происходило то, что современники называли «вторым крещением Руси». Конечно, нацизм в его античеловеческой сущности с христианством абсолютно не совместим, и в случае победы Германии в войне Православную Церковь ничего хорошего не ожидало. Но в пропагандистских целях немцы старались всячески использовать религиозный фактор. Само нападение на Советский Союз они пытались представить едва ли не как «Крестовый поход».
Поэтому немцы не препятствовали массовому открытию храмов, а лишь мешали их объединению в единую церковную организацию. В этом их политика была похожа на политику большевиков в 20-е годы: всяческое содействие дроблению Церкви. Но, тем не менее, внешний пропагандистский эффект был очень сильный. Храмы на оккупированных территориях открывались тысячами. Сталин должен был что-то этому противопоставить: если храмы открываются при Гитлере, значит, они должны открываться и при нем.
Вторая предпосылка (точнее, необходимое условие) вызова иерархов в Кремль связана с тем, что Московская Патриархия и лично митрополит Сергий, возглавлявший ее в то время, буквально с первых часов войны самым активным образом выявили свою патриотическую позицию. К 43-му году у Сталина не было уже никаких оснований сомневаться в ее искренности. Это важный фактор изменения сталинского курса, но нельзя списывать все только на него, как это делалось в советской историографии. На подчеркнуто лояльные позиции по отношению к советской власти Московская Патриархия в лице митрополита Сергия перешла еще в 1927 году. Но это не мешало советской власти в последующие годы уничтожать ее со все возрастающим ожесточением.
Еще одним важнейшим фактором стал вопрос о взаимоотношениях с западными союзниками и, в частности, жизненно важный для Советского Союза вопрос открытия второго фронта. На западе общественное мнение довольно скептически относилось к политике своих правительств, направленной на союз с СССР. И одним из главных раздражителей западного общественного мнения было то, что в Советском Союзе нет свободы совести. Сталинскому правительству было важно доказать обратное. И одних лишь пропагандистских книг – таких, например, как книга «Правда о религии в России», вышедшая в Москве в 1942 году – было недостаточно. Речь в этой и других книгах шла о том, что верующие в Советском Союзе пользуются полной религиозной свободой, а гонения на Церковь происходят на оккупированных территориях.
Иными словами, правды в этих книгах было немного и их заверения были недостаточно убедительны. Нужны были вещественные доказательства. Особенно накануне Тегеранской конференции, где Сталин рассчитывал получить гарантии скорого открытия второго фронта. Тогда же, перед конференцией, в Москву должна была прибыть высокопоставленная делегация Англиканской Церкви. Сталин хотел, чтобы со стороны Московской Патриархии ее приняли по высшему разряду, «по-патриаршьи». Ему было нужно, чтобы делегация вернулась домой с самыми лучшими впечатлениями. Это стало непосредственным поводом ускорить тот внешний поворот в церковной политике, который назревал.
Встреча
- Делегация, возглавляемая архиепископом Йоркским, должна была прибыть в Москву в середине сентября. В конце августа Патриарший Местоблюститель митрополит Сергий, который до этого почти два года провел в принудительной эвакуации в Ульяновске, получил разрешение вернуться в столицу. Ему дали знать, что нужно быть готовым к важным событиям.
В Москву был вызван и митрополит Алексий (Симанский) из Ленинграда. Третий из митрополитов Николай (Ярушевич) — формально, он был митрополитом Киевским и Галицким — и так практически всю войну находился в Москве и был в наиболее близких контактах с властью. Эти трое священнослужителей и были приглашены к Сталину.
Встреча состоялась в Кремле, в ночь с 4 на 5 сентября 1943 года, и продолжалась почти два часа. Со стороны правительства присутствовали Сталин, Молотов и полковник госбезопасности Карпов – человек, который возглавлял подразделение по борьбе с Церковью. Человек страшный: в годы «Большого террора» Карпов был одним из самых лютых следователей, применявшим самые бесчеловечные методы в своей работе. Тогда это, конечно, не афишировалось, но стало известно уже в наше время. Впоследствии, Карпов поддерживал относительно неплохие отношения с Патриархом Алексием I. Такая метаморфоза объяснялась тем, что Карпов был исполнительным функционером и действовал в русле тех указаний, какие поступали сверху. Когда установка была уничтожать Церковь, он уничтожал ее. В 43-м году последовала другая установка – создать декорум религиозного благополучия – и Карпов действовал уже в соответствии с ней. Собственно, в этом суть сталинского поворота: в тот момент Сталину было выгодно использовать Московскую Патриархию в интересах советской политики. Это совсем не означало, что гонения на Церковь после этого прекратились.
Встреча началась с того, что Сталин одобрил патриотическую деятельность митрополитов и поинтересовался, какие нужды испытывает Церковь. Затем затронули целый ряд практических вопросов.
Первым из них было восстановление нормально функционирующего высшего церковного управления и избрание Патриарха. Сталин поинтересовался, каким будет патриарший титул. Исторический титул Московских Патриархов, вплоть до Патриарха Тихона включительно, звучал как «Патриарх Московский и всея России» (некогда к этому прибавлялось еще и «всех Северных стран»). Словосочетание «всея России», видимо, не очень нравилось Сталину, и иерархи предложили изменить титул на «Патриарх Московский и всея Руси» (альтернатива – «всего СССР», которую в 20-е годы власти пытались навязать Патриарху Тихону, звучала бы с церковного амвона совсем дико).
Далее встал вопрос, о дате выборов Патриарха. Сталин потребовал, чтобы это решили «большевистскими темпами», т.е. созвали Собор буквально за три дня. И действительно задача была решена – с привлечением спецсредств и военной авиации. В ночь на 5 сентября состоялась встреча, а уже 8 сентября открылся Собор. На нем было всего 19 архиереев – все, кто мог быть привлечен на Собор в тот момент. В некоторых популярных книгах можно прочитать, что почти все были доставлены туда из лагерей. Это неверно. К тому времени, почти все они уже были на кафедрах и совершали служение. Из мест заключения непосредственно перед Собором был освобожден лишь один из девятнадцати епископов. Итогом Собора, как мы знаем, стало избрание Патриархом митрополита Сергия. Также быстро
Собор решил и вопрос избрания Синода при Патриархе. Следующим на встрече обсудили вопрос подготовки новых кадров духовенства. Сталин спросил: «Почему у вас не хватает кадров?» — хотя, причину прекрасно знал. Кадры были уничтожены по его же указанию в годы «Большого террора». Но митрополит Сергий нашелся с ответом. «Одна из причин состоит в том, что мы готовим священника, а он становится маршалом Советского Союза», — сказал он, намекая на юношеское обучение Джугашвили-Сталина в семинарии. Ответ понравился, Церкви было разрешено открыть Богословский институт в Москве и пастырские училища в ряде городов.
Осмелев, иерархи подняли вопрос амнистии осужденных священнослужителей. Сталин ответил: «Предоставьте список. Мы рассмотрим». Позже список действительно предоставили, в нем были 26 имен, преимущественно, архиереев. Рассмотрение списка затянулось – якобы, из-за того, что Патриархия сообщила монашеские имена архиереев, а нужны были мирские. Но в действительности проблема была в том, что среди фигурантов списка на тот момент в живых оставался только один. Патриарх Сергий, подавая прошение об амнистии, не знал, что почти все, о ком он ходатайствовал, были расстреляны.
Далее иерархи просили об открытии храмов там, где их было совсем мало или не оставалось вовсе, о разрешении издавать церковный журнал, о свечных мастерских. «Вождь народов» отвечал благодушно. «Журнал Московской Патриархии», закрытый в 1935-м, вскоре возобновил выход, а на местах кое-где открылись храмы, хотя их число было на порядок меньшим, чем на территориях, подвергшихся фашистской оккупации.
Затем Сталин поднял вопросы бытового плана. Патриархии было выделено здание бывшего немецкого посольства в Чистом переулке. Легко решились вопросы и с выделением легковых автомобилей и продуктов. И, наконец, когда все это было решено, Сталин сказал: «Если у вас больше нет к Правительству вопросов сейчас, может быть, они появятся потом». Для этой связи, а точнее для контроля над Церковью, был учрежден специальный орган, т.н. Совет по делам РПЦ при СНК. Во главе его поставили упомянутого выше чекиста Карпова.
Поначалу штат Совета был небольшим: там были сам Карпов, его заместитель и еще несколько человек. Но постепенно штат разросся. Карпов подбирал из коллег по службе в НКГБ, и в итоге Совет превратился в своего рода филиал органов госбезопасности.
Все важнейшие решения, касавшиеся жизни Православной Церкви, подлежали согласованию с Советом, на местах работали его уполномоченные. С ними архиереи были обязаны согласовывать свои действия – назначение благочинных, настоятелей храмов. В итоге получалось, что Русская Православная Церковь через этот Совет де-факто оказалась встроена в систему государственных органов, хотя формально ленинский декрет об отделении Церкви от государства никто, разумеется, не отменял.
Последствия
- Встреча Сталина и иерархов, несомненно, ознаменовала собой внешний перелом в государственной политики в отношении Церкви. Контроль оставался очень жестким, но Московская Патриархия почувствовала себя свободнее: уже не стоял вопрос о ее скором уничтожении, можно было пытаться возрождать церковные структуры, к чему и приступили.
В то же время, репрессии против священнослужителей продолжались и в последующие годы. Один из показательных случаев — арест в ноябре 1943 года святителя Афанасия (Сахарова) с группой священников и мирян. По мере наступления Красной армии разворачивались гонения и против духовенства, отметившегося на оккупированных территориях. Практически все, кто активно проявил там себя в церковном служении (например, в известной Псковской миссии), подверглись репрессиям, хотя и не все сразу.
Особенно гонения усилились после 1948 года. Последние годы жизни Сталина были временем нового антицерковного натиска. Но в отличие от довоенных сталинских гонений, послевоенные осуществлялись скрытно. А, кроме того, они уже не затрагивали собственно Московскую Патриархию. Патриарх Алексий I получал ордена Трудового Красного знамени, митрополит Николай (Ярушевич) ездил по всему миру, выступая в защиту советской политики, «Журнал Московской Патриархии» переполнялся здравницами Сталину. Внешнему наблюдателю картина могла показаться почти идиллической. Но те факты, которыми мы располагаем сейчас, позволяют утверждать: кардинального переворота в политике Сталина по отношению к Церкви не произошло. Сталин как был богоборцем, так и остался им до конца своей жизни.
Записал Михаил Боков