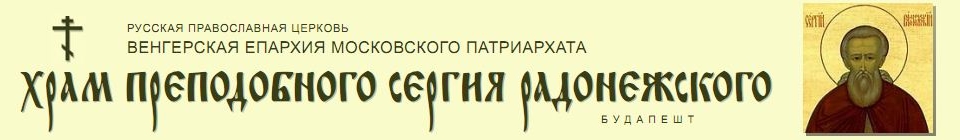ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ
СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ
ХРИСТИАНСТВО
В ВЕНГРИИ
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
ХРИСТИАНСКИЕ ПРАВЕДНИКИ
ВСЕХ ИХ СОЗДАЛ БОГ
ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ
НАШЕ ПРОШЛОЕ
И НАСТОЯЩЕЕ
О ПРИХОДЕ
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ЦЕРКОВНАЯ БИБЛИОТЕКА
ДУХОВЕНСТВО ХРАМА
СТРАНИЦА РЕГЕНТА
ЦЕРКОВЬ
И ГОСУДАРСТВО
ВОСПОМИНАНИЯ
И ДНЕВНИКИ
НАШИ РЕКВИЗИТЫ
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
СОВЕТЫ ВРАЧА
ПЛАН ПРОЕЗДА
ФОТО
ССЫЛКИ
ГАЛЕРЕИ
КОНТАКТЫ
ЦИКЛ ПЯТНАДЦАТЫЙ
ПИСЬМО БАТЮШКЕ
Батюшка Серафим
Люди мы нездешние, попали в Дивеево по милости Божией. А все батюшка Серафим. Когда я прочитала его житие, три дня не могла прийти в себя, вся моя жизнь перевернулась. Она уже и раньше перевернулась, когда мне открылась вера, но после его жития все стало совсем уже по-другому. К вере я пришла постепенно, через большие скорби. Здешний дивеевский батюшка, отец Иоанн, сказал мне, что так бывает очень часто, скорбями Господь стучится в сердца людей. Большое для меня горе было в том, что Андрюша бросил меня с маленьким Сережей. И я очень об этом сокрушалась. Тогда я и начала первый раз в жизни молиться, чтобы Господь вернул мне, если можно, моего мужа. И, видно, тогда уже начались Божии милости ко мне, грешной. Андрюша от той женщины быстро ушел, немного еще помотался, три месяца не было о нем ничего слышно, а потом вернулся. Даже просил у меня прощения. И я его простила.
Сереже было уже четыре года. Несколько месяцев мы жили в любви и мире. А потом стали ждать нового ребенка, но на пятом месяце у меня случился выкидыш, почему — никто не мог объяснить, а Тоня, моя соседка по лестничной клетке, сказала мне, что это за мои грехи. Я ведь сделала еще до Сережи один аборт, жили мы тогда в одной комнате с Андрюшиной бабушкой, бабушка, Царство ей Небесное, была после инсульта, правая сторона у нее не двигалась, она была лежачая больная и ночами кричала. Ребенок в таких условиях никому был не нужен. У меня даже сомнений тогда не возникло, я не знала, что они там живые, в материнской утробе, уже с душой, и совсем не думала, червячок и червячок. Но Тоня мне рассказала, что аборт — это страшный грех, и расплачиваться теперь придется всю жизнь.
Когда случился выкидыш, я как обмерла, я уже понимала, что у меня умер живой ребенок, а не червячок, и жить мне не хотелось. Андрюша даже водил меня к психиатру, я пропила курс антидепрессантов, и мне стало немного легче. Но главное, что принесло мне облегчение, это моя вера в Господа, Богородицу и всех святых.
Я еще в больнице начала снова молиться, чтобы Бог утешил меня, я лежала там одна, в крови, не могла подняться от страшной слабости, и никто, ни медсестра, ни Андрюша не приходили ко мне, потому что Андрюша и так один убивался с Сережей. Две мои соседки вообще были после операции и не вставали. Если бы жива была моя мама, она бы пришла ко мне, но она умерла после операции на сердце еще до рождения Сережи. И я лежала одна. Господь помог мне подняться и дойти до туалета, но на обратном пути в коридоре я упала, две женщины позвали медсестру и довели меня до кровати. Упала я удачно, ни одной царапины, только небольшие ушибы. Так что все было слава Богу, уже тогда батюшка Серафим помогал мне.
Когда я вернулась домой и пропила курс таблеток, назначенный психиатром, мне стало намного легче. Я уже могла улыбаться. И по Тониному совету пошла в церковь. Там меня охватило такое тепло и такое покаяние, что я первый раз в жизни исповедалась и приняла Святые Христовы Тайны.
До сих пор я читала только «Житие преподобного Серафима» и немного Евангелие. В церкви я купила еще несколько книг «Как готовиться к исповеди», «Что нужно знать матери», «О молитве» и «Жития русских святых».
Когда я прочитала житие Ксении Петербургской, я поняла, что живу неправильно, по законам плоти и мира. И поняла, что готова отказаться от всей своей прежней жизни, лишь бы хоть мизинцем походить на святую и блаженную Ксению. Как только я это поняла, то почувствовала, что именно Ксения будет теперь моей покровительницей и помощницей. Хотя зовут меня Ольгой, а совсем не Ксенией. Мы жили тогда в Казахстане, в Астане, но я сказала Андрюше, что обязательно должна поехать в Питер. Андрюша сказал, что с Сережей сидеть больше не будет, а я просто забыла ему сказать, что еду, конечно, с Сережей. Сережа очень обрадовался, что мы едем в другой город, но я объяснила ему, что это не простое путешествие, а паломничество к святому месту, могилке святой блаженной Ксеньюшки Петербургской. В поезде я рассказала Сереже, как Ксеньюшка помогала людям и как она жила, и Сережа очень внимательно слушал. Съездили мы замечательно, хотя и не без искушений. В дороге у меня украли кошелек. Мы разговорились в поезде с одной женщиной, на вид очень приятной, она много рассказывала про себя, угощала нас своими продуктами и даже морсом. А когда мы наутро проснулись, женщины уже не было, она вышла раньше, и что-то меня как толкнуло: я тут же полезла проверить в сумке кошелек, но его не было. Мы добрались до Смоленского кладбища без копейки денег.
На кладбище в часовне я подошла к батюшке и рассказала свою беду. Он посоветовал мне встать у входа в часовню и просить милостыню, потому что у часовни нет лишних средств. Но я на эти средства и не рассчитывала и встала у входа, а Сережа очень стеснялся и даже плакал, и звал меня, чтобы я не просила у людей денег. Но мне очень хотелось переночевать еще в Питере, а потом только ехать домой, так что нужно было и на еду, и на билет. Люди подавали мне понемногу, а я непрестанно молилась блаженной Ксеньюшке. Тут ко мне подошла женщина, которая продавала в часовне свечи и книги, и сказала, что батюшка благословил нас пообедать в трапезной. Мы с Сережей очень вкусно поели, все было благодатное, освященное блаженной, Сережа с удовольствием покушал и рыбу, и гречку, а ведь дома-то он всегда отказывался от гречневой каши, капризничал. Здесь же съел всю тарелку! За молитвы блаженной Ксении.
Денег мы за целый день насобирали не так уж мало, хватало примерно на полбилета. И я подумала, что завтра соберем оставшееся, потому что уже темнело, а нужно было еще где-нибудь переночевать. Та добрая женщина, продававшая свечи, ее звали Мария, посоветовала мне вернуться на вокзал и переночевать там во славу Божию. Мы так и сделали. Устроились совсем неплохо, на длинной лавке, после молитв Сережа почти тут же уснул, я тоже иногда отключалась. Тут-то и случилось со мной великое чудо. Я увидела сон. Какую-то большую церковь с черными куполами, а вокруг монахини в черных рясах идут на службу, и так торопятся, звонят колокола и снизу даже видно черную фигурку сестры-звонаря в верхнем пролете колокольни. Я тоже пошла вместе с сестрам и вошла в храм, просторный и светлый, и сразу же увидела блаженную Ксению на иконе. Она смотрела на меня как живая. Тут мой сон кончился. Я проснулась и поняла, что блаженная благословляет меня пойти в эту церковь с черными куполами. Но где она находится, я не знала.
Утром я разбудила Сережу, мы вместе прочитали утреннее правило и снова поехали в часовню. Мария, спаси ее Господи, отнеслась к нам еще лучше, чем прежде, сразу отвела нас поесть, долго расспрашивала, а потом принесла нам недостающую сумму на билеты. Я не знала, как ее благодарить. Это было второе чудо за молитвы святой Ксении. Я рассказала Марии про свой чудесный сон, а она ответила, что, наверное, это был какой-то женский монастырь.
Мы благополучно вернулись с Сережей домой, только вот наш папа за то время, пока нас не было, совершил ужасное преступление против Церкви и Бога. Весь мой красный угол, с иконами, с пузыречком масла от мощей целителя Пантелеймона, с баночкой святой воды, был разорен. Все иконы куда-то исчезли. «Что ты сделал, Андрей?» — только и смогла я его спросить. Муж ответил, что больше он ничего такого в своем доме не потерпит, нечего морочить ему и ребенку голову и зря он нас отпустил. Это было как ведро ледяной воды.
Через несколько дней Андрюша отошел, стал просить прощения, но мне было ясно, что если он не примет крещения и не уверует в Спасителя, Божьего благословения жить вместе дальше нам нет. Я ответила ему, что прощу его, если он покрестится. Андрюша закричал, что не сделает этого никогда, обзывал меня бранными словами, один раз даже поднял на меня руку, хорошо, что Сережа был на улице.
Квартира, в которой мы жили, была полностью моя, досталась от моей тетки, она умерла в 1998 году от обширного инфаркта, была одинокой и завещала квартиру мне. Пришлось сказать Андрюше, что ему надо будет уйти.
Полгода ушло у нас на ссоры и развод. Андрюша все никак не хотел разводиться, а видя мою твердость (или развод, или иди креститься), кричал на меня, а бывало снова пускал в ход руки. Много было тяжелых искушений, много скорбей, мне даже пришлось снова обратиться к врачу, потому что у меня начались очень тяжелые психические состояния и была установлена аритмия. Но и в этой внешней и внутренней брани Господь подкрепил меня неслыханной радостью: одна женщина принесла мне почитать толстую книгу «Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря». Каждый вечер, уложив спать Сережу, я читала эту прекрасную книгу. Ближе к концу между страниц был заложен календарик с видом церкви, которая показалась мне знакомой. Когда я вгляделась внимательней, я поняла, что это та самая церковь, которую я видела на вокзале во сне! На обратной стороне календарика было написано «Троицкий собор Серафимо-Дивеевского монастыря. Современный вид». Я заплакала и промолилась всю ночь. Господи! С Андрюшей мы были к тому времени в разводе, наконец-то я свободна, сама блаженная Ксения благословила меня ехать к Преподобному.
Но благословение блаженной особое. Я понимала, что уйти из мира должна была так же, как она. Батюшка Иоанн из Дивеева сказал мне, что это все моя гордыня, но я и не считаю, что могу быть как блаженная Ксения, мне только хотелось хоть в чем-то подражать ей. И батюшка из Астаны, отец Валерий, сказал мне, что большого греха в этом нет. Думаю даже, хотя, наверное, это дерзко, сам Господь вложил мне в сердце понимание, как я должна покинуть свой город. Я дала объявление в газете, что продаю квартиру, и назначила за нее очень низкую цену. Уже через день я оформляла документы! Слава Богу, покупатель нашелся очень быстро. Часть денег, полученных за квартиру, я отдала Андрюше, надеясь исполнить заповедь Божию о любви и примириться с ним перед отъездом, но Андрюша со мной не захотел даже разговаривать, и я действовала через его мать. А всю оставшуюся сумму мы раздали с Сережей по нашим церквам и просто нищим. Для этого мы объехали все церкви нашего города и оставили только на билет в Дивеево. Сережа очень радовался. Он сам брал у меня эти ненужные бумажки и отдавал бедным людям. Как они нас благодарили, как кланялись! Кто-то даже плакал. Я тоже не могла удержаться от слез. Моя ветхая жизнь кончалась на глазах. И такая радость охватывала душу, такая невесомость, когда я закрывала глаза, мне казалось, сейчас я взлечу. Слава Тебе, Боже! Слава тебе, блаженная Ксения! Слава тебе, Преподобный Серафим!
У меня еще оставалась мебель и вещи в квартире, много старой одежды. Я обзвонила всех знакомых и за неделю раздала все, что у меня было. Многие удивлялись и не хотели брать, пытались меня уговаривать, но я их убеждала как могла, объясняла, что ничего из прежнего мне уже не будет нужно. Только Сереже жаль было прощаться с некоторыми своими игрушками, но это было искушение вражье, на небо ведь мы ничего не возьмем с собой! Сережа все-таки оставил себе солдатиков и игрушечный джип, и я ему, по совету своего духовного отца, батюшки Валерия, в этом уже не препятствовала, сказала только, что понесет он все сам, в своем рюкзаке. В собственный рюкзак я положила Библию, Летопись, молитвослов, два полотенца, две маечки и трусики для Сережи и смену белья для себя. Рюкзак получился очень легкий. И мы отправились в четвертый удел Богородицы, туда, где как говорил Преподобный, и Иерусалим, и Афон.
В Арзамас мы приехали ранним утром, 16 мая. Оказалось, нужно еще было ехать до Дивеева на автобусе, но у нас уже не осталось ни копейки денег, все ушло на билеты и на еду. Мы поклонились всем святыням в Арзамасе, зашли в каждую церковь, — всего мы нашли их три. Я молилась всем святым, Богородице, а Сережа тоже молился по моей просьбе. С тех пор как мы разошлись с Андрюшей, он очень повзрослел. Но пора было уже идти в Дивеево. Стемнело как-то быстро, а ночлега в Арзамасе мы не нашли. Спросили нескольких людей на улице и в церкви, но ни у кого не было места.
Мы вышли из Арзамаса, поели хлеба, и тут уж стало совсем темно. Наткнулись на какой-то длинный деревянный забор, нашли бугорок и дерево и так на бугорке и заночевали. Сережа насобирал веток, мы разожгли небольшой костер и грелись, я все время молилась преподобному Серафиму и блаженной Ксении, претерпевавшим труды и холода намного большие. А наутро Господь сподобил нас стать свидетелями чуда — все наше дерево, это был тополь, за ночь распустилось, оказалось в мелких зеленых листочках. Единственный на всю округу, остальные тополя вокруг были еще голые. Сережа сказал, что это от нашего костра тополь обогрелся, но костер тут, конечно, ни при чем. Это было явное благословение Божие на наш путь. Слава Богу! Богородица нас заступила и спасла. После холодной ночи и сна под открытым небом мы даже не заболели. А все по молитвам блаженной и преподобного. Ранним утром мы уже подходили к Дивеево. Когда я увидела ту самую церковь с черными куполами из сна, я так плакала, что Сережа даже испугался. В церкви уже началась служба, мы отстояли литургию, поклонились мощам Преподобного, выслушали акафист. Одна сестра подошла к нам и спросила: «Вы паломники?» — «Нет, матушка, мы не паломники, мы навсегда». Опять я не могла удержаться от слез. Сестра посоветовала нам подойти к игуменье и испросить благословение на жизнь в Дивеево.
Матушка приняла нас очень милостиво, — мы подошли к ней после службы. Узнав, что мы из Казахстана и дома у нас больше нет, благословила нас поселиться пока в небольшом деревенском домике, принадлежащем монастырю. Когда мы туда поселились, там было еще совсем не прибрано, не обжито, люди в этом домике не жили много лет. В двух окнах стекла были выбиты, а про грязь я и не говорю. Многие, кто приходил к нам, говорили, что даже на открытом воздухе жить лучше. Потому что у нас еще как-то нехорошо пахло. Но это все были искушения — разве не чудо, что в первый же день мы, бездомные странники, получили в подарок настоящий дом! К тому же со временем все плохие запахи выветрились, это просто в кладовке лежали гнилые тряпки и овощи, я все вынесла, вычистила, стало намного лучше. Сначала мы грелись от электробатареи, но зимой все-таки было холодно, и в самый мороз нам позволяли ночевать в храме, там было отопление. Но все эти проблемы и искушения уже позади, сейчас, по милости Божией, есть у нас и печка, и окна со стеклами, и даже провели воду.
Вместе с нами живет еще одна пожилая женщина, мать одной из сестер монастыря, Светлана — ее прогнал из родного дома муж-пьяница. Светлана приглядывает за Сережей, когда я на послушании. Моя мама умерла, но блаженная Ксения послала ему как бы другую бабушку. На послушании я работаю каждый день, и Сережа мне часто помогает, но пока быстро устает. Две недели назад ему исполнилось восемь лет. В школу его отдавать, конечно, не отдаю, сначала матушки-монахини меня уговаривали, и я даже пошла поговорить с директором местной дивеевской школы, но когда зашла в здание, увидела, что в классах стоят телевизоры. Моему сыну этого не надо. Душа у него пока за молитвы Богородицы нетронутая, чистая, книг мирских он не читает, все молитвы знает наизусть, а что можно увидеть по телевизору, кроме разврата и бесов? Главное, Сереженька, покаянное сердце, а остальное приложится, вот увидишь. С ребятами он тоже играет и без школы, здесь их много, и местные, и те, кто приезжает к преподобному помолиться. Матушки моего Сережу очень полюбили, недавно купили ему новые сапожки и курточку, а меня ругают, что я не забочусь о сыне. А как мне и позаботиться, ведь за послушание денег не полагается, но если и предлагают, я не беру, дабы не лишиться небесной награды. Так вот и живем по велицей Божьей милости, за молитвы блаженной Ксении и преподобного Серафима.
А подрастет немного Сережа, Бог даст, поступит в какой-нибудь мужской монастырь, может, в Сарове восстановят, станет иеромонахом, а я уж останусь здесь, при батюшке Серафиме, до последних времен, может быть, и меня примут со временем в число сестер, а если уж дело дойдет до пострига, попрошусь, чтобы постригли в честь блаженной Ксении Петербургской. Но говорить об этом, конечно, еще рано, мой дивеевский духовный отец, отец Иоанн, говорит, что, пока Сережа маленький, нечего даже и мечтать о монашестве. А все-таки, грешная, мечтаю. Но уже и то слава Богу, что мы живем здесь, на такой святой земле, рядом с мощами великого угодника. В Дивеево не страшно, всюду воцарится Антихрист, но дивеевской канавки, по которой святыми своими стопами прошла Богородица, ему не перепрыгнуть. Так пророчествовал сам батюшка Серафим. Преподобный отче Серафиме! Моли Бога о нас.
Смешное чудо
Страстная колом стояла в горле. Черный ветер выдувал глаза. И я закрываю их, чтоб не ослепнуть и не видеть, потому что видеть больше невозможно. Зажмуриться и застыть. Терпеть не могу таких вот ослепительно солнечных, переходных, ветреных дней, середина апреля, а все еще снег, лед и это слепящее, больное солнце...
Целый год отчаянье подминало меня под себя, загоняло в черный мешок без окошек. Да и какие окошки в мешке? Трудно было дышать. Каждый раз меня снова и снова это поражало: почему если отчаянье у меня в душе, в сердце, дышать мне трудно телом, легкими? Но есть единственный вздох, который облегчит мои страдания, — затяжка. Я затянусь этой горечью, этим дымком со странным привкусом то ли смерти, то ли травы — и поправлюсь, выздоровлю, пойму, зачем я живу. Будто кто-то настойчиво и дружелюбно предлагал этот элементарный выход: глоток горечи — и никаких мешков!
Я вела машину и все время мысленно курила, не переставая, одну за одной, приоткрыв окно, выпуская дымок на улицу, стряхивая в пепельницу пепел. Задергивала дымные занавесочки, и видеть становилось легче. Если кто-то курил рядом, на улице или в помещении между этажами, я совсем не принюхивалась, не вдыхала с жадностью — это был их дым, невкусный, противный, чужой.
Но меня все-таки достало это, как любят говорить в церкви, искушение, жутко достало, и я спросила у вас на исповеди, помните? Можно я выкурю одну, всего одну сигарету? Просто чтобы кончилось наваждение? Пусть это будет проигрыш, но оно кончится наконец! Вы сказали с улыбкой: «Властию Бога мне данной запрещаю». А я, как всегда, словно играя всю ту же, давно навязшую в зубах роль: «Все равно нарушу». А вы сдержанно: «Попробуй». И я снова подумала: блин, как мало человек тратит слов, а как выходит сильно. Как мало меня уже задевает, вообще по жизни мало что задевает, а это, слава Тебе, Господи, слова этого человека хоть немного еще задевают. И я обрадовалась. Так и не попробовала. Но уехал Димка. На мне всегда сказывается это одинаково: какая свобода сразу, Господи, как перестает вдруг почему-то давить на плечи (крест замужества, что ль?), но тут же рядом с свободой нарастает тоска. Невыносимая. Так хоть можно было поговорить с Димкой, просто чтоб он послушал, а теперь вообще уже по нулям — пустота. Потому что дети это не заполнение, а по-другому. И опять поднималось это желание, то острее, то мягче, только что-то лень было пойти и купить сигареты. Какая-то вялость меня охватила, когда дело совсем уж дошло до дела. Я же не знала, какие лучше, какие вкусней.
В то утро я вышла из дома чинить машину. В кои-то веки поставила ее в ракушку, потому что у нее сломали двери и выломали магнитофон, а с открытыми дверями не поставить просто так во двор. Пришлось просить дворника Сашу интеллигентной наружности за 50 рублей. Он сбил мне лед с дверей, я заехала, заперла, но, видно, совсем уже вечером, ночью, кто-то стоял рядом с моим гаражом и курил. Он и она. У него пачка была пустой и отлетела подальше, а она оставила пачку недокуренной, сильно недокуренной, потому что когда я пнула ее ногой, чтоб не валялся возле моей ракушки всякий мусор, из пачки веером разлетелись тоненькие длинненькие белые сигаретки. Это была судьба.
Когда я курила в последний раз, таких красивых и беленьких еще не существовало в природе. Мы курили болгарские «БТ» и считали это за большое счастье Один раз я попробовала и «Мальборо» и подумала — чегой-то их все так хвалят? Мне было 15 лет. Я уже почти не могу вспомнить то время, кажется, ничего хорошего. И тогда-то я курила не так уж много, а главное, жутко картинно, даже когда одна, все равно рисуясь, смотрите, как я страдаю. Потом это кончилось, потому что церковь курение не поощряла. Легко мне было бросать, я и не привыкала. Но это, наверное, как мытарства блаженной Феодоры, которые, говорят, мы все после смерти будем проходить — любой грех оставляет в душе след и за любой ты должен отчитаться. Раз я когда-то курила, значит, это не выветрилось, и надо это теперь по-настоящему преодолеть. Но в том-то и дело, в этот солнечный апрельский день мне стало вдруг удивительно — с какой стати я буду это преодолевать? Это что, грех? Это не грех. У апостолов нигде про курение ни слова. Да мало ли. По сравнению с самоубийством, например, курение это грех или не грех? И потом — вот сейчас попробую наконец, и все, и успокоюсь. Я подняла со снега рассыпавшиеся сигаретки, две штуки, но одна уже успела чуть-чуть намокнуть, и я оставила себе другую, сухую. Понюхала. Отлично пахло хорошей сигаретой. Подержала чуть-чуть губами.
Выгнала машину, закрыла ракушку, поехала с пригорка в переулок. Вот она, белая моя, тоненькая подружка, лежит и кротко ждет меня. Я нажала прикуриватель, подождала. Прикуриватель не выскакивал назад. Вынула, посмотрела. Вместо огненной спиральки — тихая серость. Не работает! Да я ж еду в ремонт, сейчас скажу ребятам, и все. Но я так долго рассказывала мастерам про двери, мы так подробно обсуждали гадких взломщиков-наркоманов, что до прикуривателя дело не дошло. Я забыла. А когда вернулась за машиной назад, было уже неудобно. Хотя, может, это одна секунда — починить в машине прикуриватель. И сигаретка так и лежала между сидениями, под ручником. А что, спичек, что ли, нет в городе? Или, может, перестали продавать газовые зажигалки? Но надо было быстрей домой, отпускать маму, которая сидела с детьми, и глупо как-то останавливаться ради спичек, потом, может, из дома завтра принесу. Мелькнула даже мысль покурить дома, но там дети, никакого кайфа — нет, надо в машине.
Захлопывая дверь, я в последний раз взглянула на свою последнюю надежду под ручником и пошла, веселая, домой. Явно наступала маниакальная стадия. Вечер прошел хорошо. Только два раза я закричала, что в принципе очень мало, только раз бросила детскую кастрюльку об пол, и от нее тут же отлетела ручка. То есть вообще сделать ничего не могут по-человечески — made in China, называется! Но Гриша перевозбудился.
Лиза спала не шелохнувшись, а Гриша вскрикивал и все время меня звал. Он звал меня сквозь сон, но я каждый раз не знала, может, это не сквозь сон, и бежала к нему, а он стонал. Опять, что ли, магнитные бури? И через четыре бегания, в три ночи, я подумала, что, если не усну немедленно и Гриша не перестанет вскрикивать, умру. И я стала молиться: «Господи, обещаю тебе никогда-никогда не курить, обещаю завтра, как только открою машину, выкинуть эту сигарету, только дай мне поспать. Пусть Гриша больше не вскрикивает, а я бы тоже поспала. И прошу прощенья». Гриша тут же умолк, поэтому или нет, но в следующий раз мы встретились только утром.
После завтрака мы втроем собрались на прогулку, оделись и спустились вниз. Нужно было немного доехать до Нескучного. Я открыла машину, завелась, машина двинулась сквозь двор, прямо из-под колеса взвился голубь. И тут я вспомнила: выбросить! Скорее! Но сигареты не было. Нигде. Здесь, вот здесь она лежала вчера, под ручником! Белая полоска на черном. Пустота. Я остановилась прямо посреди двора, посмотрела под сидениями, потрясла коврик... Гриша, Лиза, вы не брали такую длинную белую трубочку с коричневыми крошечками внутри? Не брали. Правда? Правда. Да я и знаю, что не брали, не успели, мы только тронулись. Куда же тогда она делась? Господи, Ты не поверил мне и сам забрал отсюда эту сигарету? Но я честно б ее выкинула, а если это чудо, то спасибо. Чудо вышло смешное. Батюшка! Вот и все.
Плоды покаяния
Случилось это очень просто — весь день я готовился к экзамену, сидел дома один, родители на выходные уехали на дачу. Одурел и вечером пошел погулять. Недалеко от моего дома книжный магазин в подвале, меня там знают, я часто покупаю у них разные книжечки. У них хорошо это дело налажено, и многое доходит быстрей, чем до больших магазинов. В этот раз я зашел, а продавец, странный немного парень, длинноволосый, задумчивый такой, Левой зовут, сразу ко мне. «Вот, — говорит, — книжка такая вышла, это круто! Ты какого года рождения?» — «Восемьдесят первого». — «Выглядишь старше». — «Мне многие говорят, это из-за бороды». А он: «Тогда это не для тебя, наверное, время твое было другое. А я вот именно так жил, как тут описано, потому что автору, как и мне, двадцать девять, и жил я тоже в маленьком городке. Как будто эту книгу я сам написал».
— А про что хоть?
— Да ты почитай, она недорогая. Там вроде и ни про что, но про эту самую нашу говняную жизнь, про школу.
И я эту книжку купил. Называлась она «Город». И прочитал ее за вечер, потому что написано было неплохо, ритмично так, а учебники читать я был уже не в состоянии. Книжка — про одного пацана, как он учится в последнем классе, живет в маленьком городе и только и делает, что курит, пьет пиво и думает о девчонках. Ну, и не только думает. Девчонки в их городе тоже простые, и вот одну этот паренек легко подцепил. После второй встречи она уже пригласила его домой. И вроде там не подробно все описано, но все равно, пока я читал, чем они там друг с другом занимались, уже все, чувствую — подпирает. Мне бы отбросить эту книжонку, как гадину, в ванную под холодный душ встать, помогает отлично, я даже туда пошел, в ванную, но вместе с книжкой. Она как будто прилипла к рукам. Я сел на краешек и дочитал. И тут же все то же самое проделал. Только без девчонки.
Сначала я просто сидел, как тупой. Потому что уже четыре года ничего такого со мной не было. С тех пор, как крестился. А тут вообще на пустом месте. Посмотрел на себя в зеркало — может, это вообще не я. Не, вроде я, только очень уж противная рожа. И тогда я стал бить себя по лицу, изо всех сил, ладонями наотмашь, стало больно, и я заплакал.
Наутро я пошел на исповедь. Было как раз воскресенье. Не к нам, а в другой храм. Молодой священник, которому я исповедовался, сказал, что это большой грех и причащаться мне пока нельзя. Но я и не собирался причащаться, просто хотел примирения. Примирения не произошло. Все стоят, молятся, потом начали подходить к причастию, потом целовать крест, хор поет себе, батюшка благословляет народ, а я стою один и не шевелюсь. Потому что какой-то отдельный, от нормального мира отрезан и существую в черном прозрачном ящике типа гроба. Гроб — это мой грех. Им-то хорошо, они так никто не нагрешили, я один — как животное. Батюшка! Я даже подумал для самооправдания, что все это случилось, потому что вас нет в городе. От этого исчезает чувство присмотра, что ли. Как будто сразу все можно: батюшка все равно уехал! Я не сознательно это думаю, но где-то во мне это живет. Наверное, мне просто еще недостаточно Бога, ведь Он тоже смотрит на нас, но почему-то Его взгляда я не чувствую так остро.
Потом я поехал домой и пока ехал, ждал троллейбуса на остановке, все было также: люди вокруг — идут, болтают, насупленные, веселые, кричат, улыбаются, девочка на самокате, ребята на великах, и небо такое синее, в облачках, запах чего-то сильно жаренного из окна, а я отдельно. Сижу на своей планете Грех. И улететь на землю меня не пускают. Это такое мне напоминание, чего я стою.
Пришел домой и не мог ничего делать. Исповедь совершенно не помогла! Все хотелось куда-нибудь спрятаться, деться, чтобы меня не было, такой свиньи и поганой сволочи. Попил воды, а есть не стал — буду хотя бы поститься и искупать. Открыл шкаф, выкинул половину одежды и сел там на какое-то тряпье, сверху еще накрылся пледом, чтобы Господь не смотрел на меня так строго и простил. Стало немного легче. Просидел довольно долго. Но тут зазвонил телефон, еле выполз, не успел. Снова зазвонил — предки с дачи по мобилу, проверяли, как поживаю. Да плохо, плохо! Обратно залезать в шкаф уже не хотелось, кое-как запихал туда вываленные шмотки, встал напротив иконы Спасителя с закрытыми глазами и начал молиться: «Господи, очисти меня и прости, не удержался, а ты все равно верни меня обратно». И земной поклон. Потом снова «Господи, очисти меня и помилуй, а ты все равно верни...» Земной поклон. Не знаю, сколько прошло времени. Я весь вспотел, устал и сел. Но гроб не распался. И билета для возвращения на землю мне никто не выдал. Взгляд мой упал на оранжевую обложку вчерашней книжки, я схватил ее, изорвал страницы и через минуту уже слушал, как она шуршит по мусоропроводу. Это шуршанье было как поглаживанье по измятой душе, и я приободрился. И понял, что срочно надо сделать какой-то сильный ход, хоть как-нибудь искупить, не поклонами, а вообще радикально. Надел кроссовки и снова пошел на улицу.
Я шел по дворам, а потом по нашему парку. Он длинный-длинный, можно ходить по нему несколько часов. Долго встречал одних мамаш с колясками, старуху с двумя собачками на поводке, сильно накрашенных девчонок в мини-юбках и на каблуках.
Недалеко от пятачка с игровыми автоматами и шашлыком мне наконец попалась компания ровесников: две девушки, трое парней, один из них качок. Его явно можно было раскрутить на любую драку, но мне вдруг не захотелось, чтобы их девчонки смотрели, как меня бьют. Я пошел дальше. И увидел их. Тех, кого надо. Они сидели на лавке в узкой аллее, человек пять, подростки лет 16—17, все уже очень хорошие. Они курили и пили пиво. Я подошел и спросил, нарочно погромче и понаглей: «Детки, а для меня пивка не найдется?» Один из них тут же встал, бритый, с сережкой в ухе, и обматерил меня. Остальные заржали. Тогда я слегка ткнул бритого в плечо, чтобы разозлить его и всех еще больше, но он был уже такой пьяный, что покачнулся даже от легкого толчка и осел на скамейку. А другие ребята, вместо того чтобы защищать его, опять загоготали «Куда тебе, Блоха, ну куда тебе?» Этот Блоха, видно, был у них крайний, никто за него заступаться не собирался. А сам Блоха вдруг страшно побледнел и пошел в кусты. Его друзья закричали: «Давай, давай, проблюйся как следует!» Я для них вообще был как мебель. И я пошел себе дальше, очень медленно, чтоб, если что, Блоха смог догнать меня. Но никто меня не догнал.
И опять никак не встречался никто подходящий, уже я вышел из этого парка, пошел по дворам и вот увидел двух мужиков. Один помоложе, другой пожилой, оба усатые, черные, похоже, продавцы с рынка, у нас тут рядом, они сидели на картонке, что-то ели из бумажных тарелок и запивали из пластмассовой бутыли вроде бы пивом. Но рядом стояла уже отставленная бутылка водки. Я подошел и сказал: «Гнать вас из Москвы поганой метлой! Что мусорите?» И пнул бутылку ногой. Она покатилась по асфальту, и старший, тот что потолще и попротивней, тут же вскочил, глаза у него загорелись. А молодой начал подниматься нехотя, ему явно хотелось сначала доесть. Я приготовился к бою. Как вдруг молодой крикнул: «Патруль!» Я оглянулся: во двор въехал милицейский «уазик» с открытыми окнами и направился прямо к нам. Мужики быстренько рванули в сторону, прошли двор насквозь и ушли в подворотню. Может, у них с этими ментами были свои дела. А я не стал никуда бежать, тихо побрел по двору, не прячась, прямо навстречу «уазику». Краснорожий мент, сидевший с моей стороны у окна, оглядел меня с головы до ног, «уазик» медленно проехал мимо. И я вспомнил Каина, которого никто не мог убить, потому что на нем была печать, и Господь не позволял никому его убивать. И мне Каина стало жалко.
Голова кружилась, я уже еле шел. И понял, что с утра не съел ни крошки. Только пил воду. А был уже почти вечер. Пошел к рынку, купил себе четыре хот-дога и все их тут же съел. Господи, прости меня, грешного и обжору. Батюшка! Как хорошо, что вы вернулись, может быть, вы поможете мне по-настоящему покаяться и принести плоды покаяния? А ящик этот гадкий разбить. Очень прошу молитв. Грешный Василий.
ОТПУСТ
Христос Воскресе
А кончилось все, как вообще никто не ждал.
Матушка Анна с сестрами вымыли полы, почистили подсвечники так, что они сияли, как солнца, расставили красные свечи, принесли из просфорни мешок еще теплых просфор. Отец Антипа привез из своего сада охапки белых роз и лилий, сестры украсили ими иконы. Запах свежеиспеченного хлеба мешался с тонким цветочным благоуханием, за окном накрапывал дождик, свежесть и сырость врывалась в распахнутые окна. Сестры собрались на левом клиросе, разложили по аналоям книги, расселись по лавочкам, кто-то дремал, положив голову на плечо подруге, кто-то читал молитвослов, мать Георгия листала толстую Цветную триодь.
Первой потянулась молодежь — отец Феопрепий, нечесаный и весь в каких-то перьях, видно, опять во что-то играл, высоченный отец Доримедонт, сдержанно и стеснительно рыгавший, отец Иаков с перевязанной рукой (упал, когда слезал с дерева), все время ежившийся отец Иегудил — постиранная к празднику ряса так и не просохла до конца. За ними вбрели сонные отец Гаврюша и инок Степаненко (две ночи подряд смотрели по видику боевики), оба озирались вокруг с явной печалью на лицах... Батюшки встали на правом клиросе, тут же начали щипаться и колоть друг друга специально захваченными щепками, но тут в храм вошла новая группа монахов с отцом Митрофаном во главе. Молодежь сразу же присмирела, подобралась, попрятала щепки в рясы и вытянулась в струну. Слух о том, что отец Митрофан невзирая на лица давал подзатыльники тем, кто шумел и неблагоговейно вел себя в церкви, был всем хорошо известен. Отец Митрофан оставил своих вышколенных подопечных на клиросе, а сам широким шагом вошел в алтарь.
Федя-столяр, в прошлом артист драматического театра, внес в храм деревянные с резными ножками лавки — сначала одну, потом еще две. На первую тут же тихо присела пожилая женщина в черном платке с серебристой бахромою и дамской сумочкой в руках — Федина мама. Тут прямо к ящику со свечками просеменила писательница в очках, с заплаканными глазами, и, взяв карандашик, начала писать длинную записку «О здравии», батюшка-супермен, стоявший за прилавком, принимая записку, подмигнул ей и даже как будто что-то негромко пропел. Девушка повеселела, утерла глаза белым платочком и встала неподалеку, чтобы иногда взглядывать на развеселившего ее батюшку и укрепляться духом.
Вошла матушка Феодосия и придержала дверь, чтобы шедший за ней отец Аверкий снова не ушиб свой старческий лобик. Явились еще несколько неведомых старцев и тихим ручьем пролились в алтарь, за ними въехал в инвалидной коляске Дубовичок, вошел краснощекий Миша с веревочкой грибов через плечо и бидоном парного молока, который тут же поставил на табуретку возле кануна; туда же Миша сложил и грибы. Потом потянулись вдруг хорошие люди, батюшка-атеист, батюшка-пьяница, батюшка-клептоман... Все они шли с опущенными головами и встали у самых дверей, не смея двинуться дальше. За ними две сестры ввели игуменью Раису, тоже какую-то понурую.
Вдруг в церковном дворе появился старичок в шляпе и сером плащике, сиявший лицом и ясной тишиною, его вели под руки какие-то люди. Батюшка был погружен в себя и вместе с тем как будто видел все, что происходит. Его ввели в церковь, он снял шляпу, перекрестился и, поблагодарив попутчиков, тихо пошел в алтарь. Все, кто стоял в храме, замерли: будто светлая дорожка выстилалась за ним, только сестры матушки Анны на клиросе не растерялись и, быстро поднявшись с лавок, попросили у батюшки благословения. Батюшка улыбнулся, взглянул на всех, но опять каждой показалось, что именно ей он улыбнулся и на нее одну взглянул, и благословил их общим благословением, а когда сестры подняли головы, батюшки уже не было, только алтарная дверь чуть качнулась. Писательница тут же начала утирать глаза. Это был, конечно, отец Тихон. Следом пришли блаженные — Любушка, что-то неясно бормочущая и пишущая на ладони, бомж Гриша с последним томом «Поттера» под мышкой, седая молчаливая Таня, в прошлом мать троих детей.
Легко и стремительно промчался отец Николай с острова, никто и глазом моргнуть не успел, а он уже очутился в алтаре. За ним ввели маленького и крепкого отца Павла-кормильца, в очках, перевязанных веревочкой, похожего на большой лесной гриб, до амвона его довела келейница и какой-то крепкий юноша, а там уж подхватили под руки отец Митрофан и отец Артемий. Как оказались в храме второй отец Павел с Груней, никто не заметил, только и он тоже был уже в алтаре, а Груня стояла возле сестер матушки Анны.
Внезапно раздался шум, возня: это посыпались дети — при каждой маме по четыре, пять, шесть штук, и все такие шустрые, бойкие — стриженые мальчики в белых рубашечках, разновозрастные девочки в красных платочках. Вскоре в дверях возникли и папы, закрывавшие во дворе машины, дети вмиг присмирели, даже груднички прижались к материнским грудям и погрузились было в сон, как вдруг послышалось громкое тарахтенье, стекла в окнах зазвенели — батюшка-бизнесмен спускался в церковный дворик на личном вертолете. Вертолет завис над церковью, из него выдвинулась лесенка, батюшка ловко спустился по ней прямо к церковным дверям, махнул летчику рукой, вертолет тут же поднялся в воздух, развернулся и улетел. А батюшка натянул рясу и легким, энергичным шагом вошел в храм. Завозившиеся младенцы снова стихли и уже не слышали, что следом, подволакивая ногу в прохудившемся ботинке, вошел батюшка-неумеха с безмолвной матушкой под ручку.
Тут повалили и парочки: Коля с Олей, Петя с Людой, Женя с Васей, Настя Трофимова с Робом, Славик со своей красавицей Сонечкой, Сергей с Аней, ощупывавшей прицепленный к поясу портативный диктофончик, Таня и Гриша с рюкзаком за плечами — и все такие молодые, веселые, бодрые. Пружинистой походкой прошли улыбчивые батюшки-американцы, оба владыки, отец Михаил и отец Валерий, с матушками и нарядными детьми. Девочки в шляпках, мальчики в костюмчиках-тройках — одно слово, Америка. Леня Коротков явился в дед-морозовском красном колпачке, но смущенно его стянул. Дьякон Григорий, бормоча «я скажу это начерно, шепотом, потому что еще не пора», прошел вперед, к амвону, где его нагнал отец Мисаил, остановил и ответил ему медленно и серьезно: «Забываем мы часто о том, что счастливое небохранилище — раздвижной и прижизненный дом». Совершенно поняв друг друга, оба отправились в алтарь.
А народ все прибывал и прибывал, кто-то с кем-то здоровался, обнимался, раскланивался, а кто-то пришел сюда в первый раз, посмотреть на крестный ход, но и они, повторяя за другими, взяли в руки по красной свече и стояли, тихо переминаясь и перешептываясь.
Храм был полон, служба началась. И какая служба! То есть сначала-то все шло, как обычно, тихо, а потом все громче, звонче. Запели «Христос Воскресе из мертвых», вышли из теплого храма в сырую темноту, в юный апрельский воздух, обошли его с крестным ходом и тихим пением, сияя огоньками в темное высокое небо, выхватывая мерцанием свечей склоненные деревья, замершие, чуткие, все в почках, рвущихся на свет. И вернулись в храм уже другими, с чистым сердцем, с лицами как у детей. А хор пел, и каждое слово было слышно так ясно, как никогда, и казалось, что это не хор, а высокие волны поднимают стоявших здесь все дальше, все выше. В церкви стало совсем светло, появились новые лица, и с каждым мгновением их становилось все больше и больше. Как они проходили, откуда брались — понять было уже невозможно. Тонкие юноши, прекрасные девушки, крепкие мужчины в белых рубашках, стройные женщины в цветных платьях, мальчики и девочки, старички и старушки, напоминавшие ангелов. И все-таки прибывали еще и еще.
Из алтаря по очереди выскакивали патриархи, митрополиты, архиепископы и епископы — в блистающих красных одеждах, в белых и черных клобуках, в митрах и без митр, десятки, сотни, несчетное число батюшек, мучеников, первомучеников, блаженных, преподобных, святых. Все они повторяли одно и то же: «Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе!» Им отвечали тысячи, миллионы голосов, и всё пело, всё сияло, всё радовалось, все обнимались и целовали друг друга в щеки. Батюшки-хорошие-люди было зажались, заприкладывали руки к сердцу, хотели что-то объяснить — их тоже начали обнимать и целовать, и они сразу же затерялись в этой ликующей толпе. Как вдруг на амвон вышел седенький священник в золотых одеждах. Сразу стало тихо, раздавался только треск свечей. Священник, глядя в светлые лица стоящих в храме, сказал: «Богатии и убозии, друг с другом ликуйте. Воздержницы и ленивии, сей день почтите. Постившиеся и не постившиеся, возвеселитеся днесь. Трапеза исполнена, насладитеся вси. Никтоже да рыдает убожества, явися бо общее царство. Никтоже да плачет прегрешений, прощение бо от гроба возсия. Где твое, смерте, жало? Где твоя, аде, победа? Воскресе Христос, и ты низверглся еси. Воскресе Христос, и падоша демони. Воскресе Христос, и радуются ангели. Воскресе Христос, и жизнь жительствует. Христос Воскресе!»
Храм ответил ему единым выдохом и громом: «Воистину Воскресе!»
А маленький мальчик Гоша, сидевший у одного очень серьезного папы на шее, крикнул: «Ура!» И зарычал в папину лысину, как будто он страшный тигр.