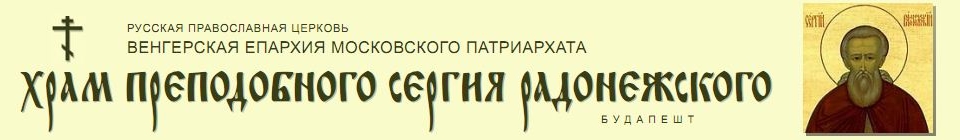ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ
СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ
ХРИСТИАНСТВО
В ВЕНГРИИ
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
ХРИСТИАНСКИЕ ПРАВЕДНИКИ
ВСЕХ ИХ СОЗДАЛ БОГ
ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ
НАШЕ ПРОШЛОЕ
И НАСТОЯЩЕЕ
О ПРИХОДЕ
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ЦЕРКОВНАЯ БИБЛИОТЕКА
ДУХОВЕНСТВО ХРАМА
СТРАНИЦА РЕГЕНТА
ЦЕРКОВЬ
И ГОСУДАРСТВО
ВОСПОМИНАНИЯ
И ДНЕВНИКИ
НАШИ РЕКВИЗИТЫ
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
СОВЕТЫ ВРАЧА
ПЛАН ПРОЕЗДА
ФОТО
ССЫЛКИ
ГАЛЕРЕИ
КОНТАКТЫ
ГОША НОГИ КОЛЕСОМ
(Островной сказ)
В то победоносное, маршевое время этих людишек никто не замечал и не думал о них, разве что Господь Бог и «легавые власти», что и понятно: они, грешные, всегда были виноваты перед ними. Но, несмотря на все, человечки жили своей непридуманной жизнью,по-своему кормились, ругались, любились, развлекались и на вопрос «Как живете?» отвечали: «Пока живем» — или шутили: «Так и живем — курочку купим, петушка украдем».
Обитали они на обочинах двух питерских островов — Васильевского и Голодаевского, если официально, то острова Декабристов. По преданию, на нем тайно захоронили казненных аристократических революционеров, а несколько позже к ним присоединили повешенного на Смоленском поле цареубийцу Каракозова.
Остров Голодай, как звали его в народе, по одной из городских легенд, подарен был императрицей Екатериной II английскому купцу-врачу за тороватость в торговле и медицине. А врача-купца звали Холидэем, что русская и чухонская шантрапа со временем переделала в Голодай в соответствии со своим житейским положением. С тех пор это прозвище укоренилось в головах местных болотных жителей и до 30-х годов считалось официальным названием.
Большой и меньший острова отделяются друг от друга речкой Смоленкой, на берегах которой с двух сторон расположены три старинных питерских кладбища: с Василеостровской стороны — Смоленское православное, напротив с Голодая — два остальных: Армянское и Лютеранское. В этом месте река несколько изгибается, и как раз на ее излучине стоит Смоленский мост, соединяющий два острова и три кладбища вместе.
17-я линия Васильевского острова, пересекая Камскую улицу, упирается через этот мост в Лютеранское кладбище, Немецкое по-местному, а сама Камская улица, практически являясь продолжением набережной реки Смоленки, заканчивается Смоленским кладбищем. Наверное, поэтому островные жильцы в то советское время острили, что все дороги Васильевского ведут на 17-ю линию. Да, еще одна интересная подробность: названия улиц в этих краях остались дореволюционными. Советская власть почему-то не переименовала здесь ни одного переулка. Места, как говорят в городском народе, окраинные, занюханные, злачные, и сами понимаете, кто в таких местах селится: разные маклаки, воры, проститутки, ханыги, городские и кладбищенские певцы Лазаря — нищие и прочие отбросы нашей цивилизации.
Можно бы этого и не рассказывать, но немного географии поможет нам понять, где развивались незначительные, конечно, но все-таки события.
Знаменитостью этой территории в ту далекую пору являлся «приставленный к жизни грех человеческий», как он себя именовал, а по-людски — Гоша-летописец или, как величало его островное пацанье, Гоша Ноги Колесом.
Славу свою он приобрел не житейскими подвигами, а скорее безобразным, нелепым уродством, которое и описать-то трудно. Самым хитрым уродописцам такого не придумать — в голову не придет. Если снять с него рисунок на бумагу, то прокурор не поверит, что такая невидаль существует на земле.
Главная особенность Гошиного уродства — это несоразмерность всего, из чего он состоял. Правое плечо его было в два раза шире левого, отчего огромная косматая голова сдвигалась с оси тулова. Шея практически отсутствовала, а грудная клетка выворачивалась направо, и при сдвинутой голове казалось, что он горбун, но только «боковой». Тулово взрослого человека стояло на малюсеньких колесообразных тонких ножках ребенка, которые завершались огромными ступнями. Голова его, покрытая неравномерной волосяной кустистостью и совсем не там, где положено, навсегда повернутая зачем-то направо, к широкому плечу, украшалась нахально торчащим из ассиметричных скул носом Петрушки-Буратино. А в глубоких разновеликих глазных впадинах висели маленькие бусинки-глазки. Весь этот вид окантовывали безжалостно вывернутые наизнанку уши, а маленький, почти вертикальный ротик был кем-то сдвинут влево. В довершение ко всему разновеликие руки, короткая левая и волосатая правая, заканчивались крохотными ладошками с детскими пальчиками. И если подводить итог его описанию, то, пожалуй, он, Гоша, прав, обзывая себя «грехом человеческим». Только дикая фантазия природы могла все это соединить вместе и выбросить в мир людей.
Ходил Гоша зимой и летом в буром хлопчатобумажном свитере и в душегрее, сшитой из кусков старой овчины. Порты его гульфиком волочились по земле и из-за косолапости ног морщились гармошкой. Зимою поверх этого он надевал наполовину окороченный козлиный дворницкий тулуп с сильно обрезанными валенками и, нахлобучив малахай, превращался в местное пугало.
Обитал Гоша в бывшем дровяном чулане площадью не более четырех квадратных метров между первым и вторым этажом старого дома на 17-й линии Васильевского острова, недалеко от Смоленки. Стены дровяника, оклеенные питерскими газетами и линялыми страницами «Огонька», завершались «бордюром» каких-то знатных советских людей и военных 30-х - 40-х годов. С правой руки от двери к проходящему печному стояку прилеплена была кривая печурка, а вдоль стены — прямо от входа — громоздился продавленный кожаный диван, выброшенный кем-то по старости из «буржуазной» квартиры. Между диваном и стенкою втиснут был ватник — «собственность» ближайшей собачьей подруги хозяина бело-рыжей лайки, суки по кличке Степа.
На печке стояли медный луженый чайник и кастрюля, выше, на выступе стояка, под потолком, находилась кривая, пожившая во времени птичья клетка.
Над дверью с внутренней стороны каморки висело печатное изображение забытого в ту пору патриарха Тихона, видимое только с дивана, если на него глубоко сесть или лечь.
Гошины рассказы про себя были чудными: «Одновременно с моей матерью в казенном роддоме опростилось еще две матери, причем одна из них тремя близнецами. Из всех рожденных я оказался самым безобразным — просто какой-то зверюшкой, даже испуг прошел по всем повитухам от меня. Сильно ослабевшей матушке из жалости показали одного из близнецов. Меня же третьим отнесли близнецовой матери и та с испуга, естественно, отказалась от уродца. Так я и попал в дом призрения и там почему-то сохранился. Да, забыл сказать, что все возникшие рожденные новички жутко орали и от ора все запутались до того, что какой я матери — до сих пор не знаю. Хотелось бы от своей матери быть, но не выходит никак. А тут еще вдруг война напала — первая империалистическая, и опять все помешалось, сутолока всякая, в ней-то я возьми и, незнамо как, потеряйся. Меня искали-искали, нашли, конечно, но не те, а другие. Они своего искали, а я попался — взяли. Дожил я у них до понятливого состояния, а как стали попрекать, что достался я им случаем да еще больно плохонькой личностью, я возьми и убеги из их дома. Так и стал шатуном с самого своего малолетства. От недостатка материнской любви дорос только до карлы. Но видишь, как оно все поворачивается — убогостью ведь кормлюсь, русскую жалость вызываю».
На вопрос, как его отчество и как он попал на питерские острова, шутил: «Части внешности моей в несоответствии друг с другом находятся. Голова большая, мохнатая — южная, а ножки хилые, недоросшие — северные. Они-то и привели меня сюда, в Питер. Разогнанные революцией монашки Евдокия и Капитолина, царствие им небесное, выучили и приохотили меня к Богу. С тех пор подле него и живу. Истопником служу по надобности при кладбищенской церкви имени иконы Смоленской Божьей Матери, да и кормлюсь-то им, кладбищем. Про отчество же скажу: я ведь человечек не полный, а половинный — зачем оно мне?
Местные назвали меня „летописцем“ за „кладбищенские знания“. Кладбище старинное, как музей, много в нем знаменитостей да академиков захоронено. Вон сама Арина Родионовна, нянька-то пушкинская, тоже здесь положена. Служу поводырем за копейку. Забывших могилки родных ко мне направляют, а я и разыскиваю. Про нашу Ксению Петербуржскую, блаженную, покровительницу города, рассказываю, чтобы не забыли ее подвигов, пока она в запрете-то находится. Кто-то и по этой части должен быть, а мне сам Боженька велел — к другому природой не приспособлен.
В блокаду выжил грехом — кладбищенских птичек ел. Ловил и ел одну птичку в день, не более. Клетку приспособил под ловушку, приманивал крошками, а потом — оп! — и супчик. Здесь ведь самое птичье место на острове. Ловил в тихаря, прятался от людей, вот так и выжил. В ту пору всё и всех ели, а я только их, горемычных. Выходит, что в блокаду небом кормился, прости меня Господи Иисусе Христе. Прости и помилуй. Сейчас же сам их кормлю и отмаливаюсь.
Личность, как видите, я уродливая, и многие смотрящие на меня отворачиваются. Поэтому с утра бегу сюда, на Смоленское, чтобы никому глаза не мозолить. Здесь же усопшие ко мне претензий не имеют, а приходящие на могилки родственники свою гордость за воротами оставляют. Здесь я хоть плохонький, но человечек, кладбище для моей персоны все — мой храм, мой мир, мой хлеб. Кажется, что я здесь ужасно давно, еще до них, захороненных, топтал эту землю и всех пережил — знаменитых и просто смертных. Ни одни похороны уже много лет не проходят без моего присутствия. Я живу, а они все уходят. Странно как-то, но уходят-то ко мне. В мой музей. И становятся моими кормильцами» — так философствовал Гоша.
Свою подружку Степу обрел он в большом сугробе на Смоленском кладбище. Про страсти, связанные с обнаружением Степы, уродец с удовольствием рассказывал островной малышне.
«После нескольких дней грудной хвори стал обходить свои владения и на Московской просеке вдруг вижу, что из сугроба, насыпанного между новыми могилками, идет дым да какой-то вроде вой слышится. Что за чудо у нас на Смоленском? Перекрестился аж на всякий случай. Ерунда какая-то: сугроб дымится и из глубины воет. Думаю, чертовщина без меня произошла. Болеть-то нельзя, да еще в зимнее время. Нечистый ведь на воле гуляет. Мороз его не берет, холод для него — родная рубашка. Недоглядели люди — он и освоился. А может быть, начальственного колдуна похоронили без меня — так по нему черный дух дымится и воет или какой-то чухонский волкодлак в снегу поселился. Вот, думаю, страсти-то какие. Снова перекрестился раз несколько — гляжу: сугроб замолк, только дух из щели в воздух поднимается. После крестного знамения осмелел, подошел ближе и вдруг слышу: из снега рычанье раздается с подвывом, скорее жалостливым, чем злобным — на собачий похоже. Я зашел по снегу с другой стороны сугроба, вижу: из щели торчит кусок брезентового ремня с петлей на конце, на поводок похожий. Думаю про себя: наповодке-то собака должна быть, да наверняка она и есть. За хозяином пришла. Хозяина днями без меня на Московской просеке схоронили, а она рядом зарылась в сугроб и воет по нему — вот и загадка вся. Кабы человечки были преданы своим близким, как она, а? Три дня выманивал ее ласкою да магазинною котлетою- наконец выманил лайку-сучку. С тех пор с этой „снегурочкой“ и живу — не расстаюсь. Но она от меня каждый день ходит проведать могилку своего старого хозяина».
Ежегодно, в декабре месяце, Степа щенилась, доставляя Гоше большие расстройства и хлопоты. Обругивал он ее, но ничего не помогало.
«Снова обрюхатилась, куда ж я твоих барсучат-то дену? Смоленским окуням отдам? Неладная ты бродяжка-ковыряшка. Старая ведь тетка, сколько можно в природе-то ходить, хватит, уходилась! Ан нет, опять ковырнулась с еголышем каким-то. Фу, тебе — дурь, а мне — топить, грех брать. Что винишься-то, пошла от меня, бесстыда бабская. А ну, кому говорю, пошла вон!» И Степа уходила, поджав хвост.
По русским меркам Гоша был трезвенником. Многочисленные совращения его разными алкогольными людьми получали от него категорический отпор, единственно, когда он позволял себе слабость, — это святочное, новогоднее время. Причем пил только для «веселости состояния», чтобы разогнать тоску, накопившуюся за зимнюю питерскую темноту.
Дружил уродец, кроме Степы, с окраинной детворой. При этом объединял вокруг своей нелепой персоны издавна враждовавших в этих краях наследников голодайской и василеостровской голытьбы.
С начала декабря, как только на реке стал лед, между двумя кладбищами — Армянским с Голодая и Смоленским с Васильевского острова — под обезглавленным остовом Воскресенской церкви островное пацанье устраивало ледовые побоища. Скатывались с высоких противоположных берегов друг на друга на самопальных лыжах-клепках (досках старых дубовых бочек) и тарантайках — самодельных, из гнутого вокруг кладбищенских деревьев металлического прутка финских санках. Они сражались на льду деревянными мечами и палками не на жизнь, а на смерть весь световой день.
В конце декабря на новогоднее и святочное время наступало межостровное перемирие. Гоша Ноги Колесом объединял всех в одну ватагу для подготовки зимних праздников в этом укатанном месте. В пробитую во льду лунку вмораживалась добротная елка, ежегодно поставляемая для праздника старым голодайским вором-пенсионером Степаном Васильевичем. Два-три дня на крыльце церкви Смоленской Божьей Матери изготавливались сообща нехитрые и замечательно красивые елочные игрушки, которых никто и нигде не имел. В глиняные фигурные формочки с нитяными петельками заливалась подкрашенная цветными чернилами вода. Формочки выставлялись на мороз, и на следующий день разноцветными хрустально-ледяными птичками, рыбками, зверушками украшалась воровская елка. Против елки, ближе к Смоленскому мосту, ставилась большая снежная баба — богиня зимы, скатанная и вылепленная в оттепельные дни. В ее голове в качестве носа торчала пивная бутылка, вставленная главным помощником Гоши — Вовкой Подними Штаны.
Одетый в великанские батины портки и кирзовые сапоги Вовка был самым свирепым шпанским хулиганом Голодая. В конце 50-х годов он становится классным вором, а немногим позже чуть ли не паханом всего Северо-Запада. В 60-е его старой кепкой-лондонкой венчали наиболее отчаянных пацанов острова. Следующим помощником считался красивый рыжий татарчонок Тахирка — сын потомственной питерской дворничихи из углового дома 17-й линии и Камской улицы. Во второй комнате их казенного жилища на синей обойчатой стене, среди окантованных арабской вязью каллиграфически написанных цитат из Корана, рядом с портретом важного татарского деда, под стеклом на темно-зеленом бархате висела золотая медаль с двуглавым орлом, выданная деду Тахирки за верную службу русским царям и Отечеству по случаю двадцатипятилетия службы столичным дворником.
Третьей помощницей, в особенности по игрушкам, была любимица Гоши -крохотная кареглазая девчонка с чухонским носиком-уточкой, которую все звали Кудышкой, в отличие от ее чокнутого дяди Никудышки — кладбищенского нищего, небольшой величины мужичонки с бабьим лицом. Она вместе с ним служила нищенкой на Смоленском. Ее отец, маклак с барахолки, в 40-х годах был взят «на посиделки» за какую-то политику, да там и сгинул. Мать, ставшая ханыжкой, набегала раз в день на своих кормильцев и вытряхивала из их карманов дневную выручку, при этом страшно ругаясь, что ныкали от нее нищенскую мелочугу. Забрав гроши, убегала за ленинградскою водкою — самой дешевой в ту пору: один рубль десять копеек за чекушку.
Кудышка на «страсти-мордасти» не ревела, а только сильнее сжимала свои крохотные губки, за которыми прятала часть денег, отчего становилась еще более похожей на уточку. Из этой уточки со временем выросла первая островная красавица, ради которой множество василеостровских и голодайских богатырей билось смертным боем. А она выбрала себе художника, предки которого лежали на Смоленском кладбище — последнем пристанище художественных академиков.
Малютка Кудышка и завершала подготовку к зимним праздникам, вонзая в снежный задок огромной богини хвостик из старой мочалки.
Начинались ледовые гульбища перед самым Новым годом, а заканчивались сразу за православным Рождеством, к концу школьных каникул.
Мономашил всем представлением сам Гоша-летописец, в вывернутом наружу тулупчике, в старом, с торчащими ушами, мохнатом малахае похожий на страшноватого деда Чурилу или на древнее славянское божество вроде мифического бога Велеса. Он выводил убранную в бело-золотистый платок тахиркиной матери Кудышку с красным мешочком в руках-рукавицах и ставил ее на лед по центру, между зимней богиней и елкой. Сам же со «снегурочкой» Степой становился подле бабы. Суковатым жезлом с петушиным навершием и консервными банками, прибитыми и привязанными к нему для звука, бил по льду несколько раз, приговаривая: «Солнце пришло, свет принесло, кто за него борется, тот им и кормится».
На этот сигнал из-за кустов с двух враждебных берегов выбегало ряженное медведями пацанье и устраивало на льду вокруг малютки бой-борьбу. Победившая сторона получала возможность первой славить девчонку.
Маски у них были из мешков. Два угла, перевязанные бечевкой, — уши, часть мешка, собранная и затянутая веревкой, — пятачок морды, и две дырки по бокам — глаза. Все это надевалось на голову, закрывая шею, плечи, грудь. Получалось очень убедительное медвежье существо. Так вот, «победители-медведи», старательно держась за руки, ходили вокруг нее хороводом и славили:
Кудышка, Никудышка,
Желанная, бескарманная,
У тебя в кармане горошинка,
А сама ты хорошенька.
А она, румянясь успехом, одаривала из красноситцевого мешочка пляшущее вокруг нее пацанье лошадиным лакомством — кусками жмыха и дурынды, краденными на Андреевском рынке Вовкой с товарищами.
Побежденный хор, вздергивая вверх и опуская до снега свои ручонки, картавил глупостные припевки:
Шундла-мундла вот какая,
Шувдлик-мундлик вот такой… -
и, кружась с победителями вокруг Кудышки-Солнца, все вместе пели:
Капуста, капуста напустится,
Поднимается, поднимается — опустится…
Лучше всех плясал и пел Тахирка, за что более всех и награждался. Тем временем дед Чурила посыпал из консервной банки всю пляшущую братию овсом и, стуча жезлом, басом дьячка поздравлял: «Сею, вею, посеваю, с Новым годом поздравляю».
«Снегурочка» Степа вставала подле богини зимы на задние лапы, выворачивая наружу сиськи кормящей собачьей матери, и начинала подвывать им свое славление. Смотревшая от зрителей старая пьяная проститутка по кличке Доброта, вдохновленная происходящим, сбегала на лед и, прихлопывая по льду латаными валенками, плясала девочкой, припевая деревенскую:
А на горушке снеги сыплют, снеги сыплют,
Лели, снеги сыплют.
А нас мамочки домой кличут,
Лели, домой кличут.
А нам домой не хотится,
Нам хотится прокатиться
С горушки да до Служки, до елушки,
Лели, до елушки.
По берегам Смоленки стоял и зырил на происходящее внизу уважаемый люд с двух островов. Среди них были известные невские дешевки — Лидка Петроградская и Шурка Вечная Каурка — в сопровождении своих прихахуев-сутенеров с Уральской улицы; дородная дворничиха — мать Тахирки — в белолебедином фартуке с огромной лопатой, которой очищают лед от снега; нищенствующий гражданин Никудышка, следивший своей кивающей головой за имевшей успех у публики Кудышкой; бесконечно крестившийся и бивший поклоны Дед Вездесущий — седой, жеванный жизнью старичок; две конопатые сестрицы-побирушки Фигня Большая и Фигня Малая; две-триникчемные старушки и несколько отпетых выпускников трудовых исправительных лагерей.
Иногда на ледяную затею заглядывал гроза межостровного пространства сам «квартальный милиционер» по кличке Ярое Око, живший за мостом в одиноко торчавшем на берегу Смоленки темно-красном доме. Но, не обнаружив безобразий, выкурив на берегу свою беломороканальскую папироску, уходил «ярить» других людишек.
С высоких береговых осин, как с театральных галерок, с любопытствующим участием взирали на ледовый спектакль многочисленные кладбищенские вороны, а взбаламученные окраинные воробьи чириканьем дополнительно озвучивали происходящее.
В завершение празднества все общество, включая зрителей, кричало «Ура!». Только хулиганствующий пацан Вовка Подними Штаны всегда все портил: после «Ура!» он на всю Смоленку орал: «В жопе дыра!» Но несмотря на это все малые и большие человечки расходились со Святок довольные, и еще долго можно было слышать на Камской, Уральской, Сазоновской улицах приличные и неприличные припевки, вроде:
Свинья рыло замарала,
Три недели прохворала.
Весело было нам,
Весело было нам…
Или:
Бундыриха с Бундырем -
Две подушки с киселем.
Пятый хвостик
Пошел в гости…
Последние ледяные Святки на реке Смоленке происходили в знаменательный 1953-й - год смерти Вождя. До следующего Нового года Гоша не дожил нескольких дней — застыл в своем чулане на 17-ой линии. Об этом известила всех воем Степа-«снегурочка». Его нашли сидящим на волосяном диване и смотрящим своими глазами-бусинками на литографическое изображение патриарха Тихона. Как говорили местные алкогольные людишки: «Тоска напала на уродца, а отогнать ее было нечем — вот и застыл».
Спустя день, в субботу, на другом острове на хавире знаменитой голодайской марухи Анюты Непорочной почил своей смертью великий островной вор-карманник Степан Васильевич, которого вся округа уважительно величала «мечтой прокурора» и который последние свои пенсионные годы поставлял елки для зимних забав на льду реки Смоленки.
Островные ярыги поминали их вместе в холодный декабрьский понедельник. По этому скорбному случаю «целовальник» пивного рундука, что на углу 17-й линии и Малого проспекта, выдавал постоянным посетителям водку и подогретое пиво под запись.
С их уходом из мира перестали быть и остались разве что в памяти, и то мало у кого, ледовые гулянья на реке Смоленке между тремя кладбищами — православным Смоленским, Армянским и Немецко-лютеранским — на двух островах стоостровного города.
Май 1997 г.