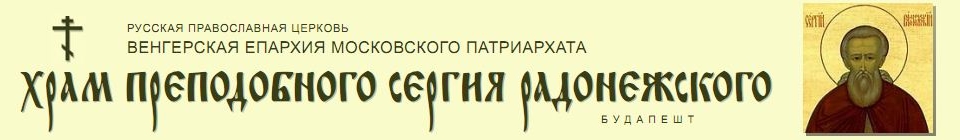ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ
СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ
ХРИСТИАНСТВО
В ВЕНГРИИ
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
ХРИСТИАНСКИЕ ПРАВЕДНИКИ
ВСЕХ ИХ СОЗДАЛ БОГ
ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ
НАШЕ ПРОШЛОЕ
И НАСТОЯЩЕЕ
О ПРИХОДЕ
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ЦЕРКОВНАЯ БИБЛИОТЕКА
ДУХОВЕНСТВО ХРАМА
СТРАНИЦА РЕГЕНТА
ЦЕРКОВЬ
И ГОСУДАРСТВО
ВОСПОМИНАНИЯ
И ДНЕВНИКИ
НАШИ РЕКВИЗИТЫ
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
СОВЕТЫ ВРАЧА
ПЛАН ПРОЕЗДА
ФОТО
ССЫЛКИ
ГАЛЕРЕИ
КОНТАКТЫ
Евгений Сергеевич Боткин (1865-1918) – лейб-медик и семейный врач Императора Николая II, приват-доцент ВМА.
«Он был безусловно преданный Их Величествам слуга» (Генерал Мосолов).
Основатель славной династии Боткиных – Петр Кононович Боткин, - крестьянин Псковской губернии. Человек умный и предприимчивый, он приехал в Москву в начале ХIХ века и завел свое дело – чаеторговую фирму. Вышел в купцы I гильдии, построил дом, дважды был женат. От двух браков имел 25 детей. Род Боткиных дал стране ученых, художников, купцов. Каждый врач знал классические «Клинические лекции» профессора ВМА Сергея Петровича Боткина, лейб-медика Императоров АлександраII и АлександраIII . Как и отец, он был женат дважды, правда, детей имел вполовину меньше –12.
Его четвертый ребенок - Евгений - родился 27 мая 1865 года в Царском Селе. Мать, Анастасия Александровна, рано умерла, но успела дать сыну домашнее воспитание. В 1878 году он поступил сразу в 5 класс гимназии. Затем Евгений Сергеевич стал студентом физико-математического факультета университета, но через год перешел в Военно-Медицинскую Академию. В 1889 году с отличием ее закончил.
Профессиональную деятельность он начал в 21 год. Работать стал не в лучших клиниках (на что имел полное право), а в Мариинской больнице для бедных. После стажировок в Германии и недолгой работы при Придворной певческой капелле защитил диссертацию и стал приват-доцентом ВМА.
Студентам Евгений Сергеевич прежде всего старался передать свою убежденность в том, что «радостное и приветливое настроение – драгоценное и сильное лекарство», которое зачастую помогает гораздо лучше, чем микстуры и порошки. «Только сердце для этого нужно, только искреннее сердечное участие к больному человеку. Так не скупитесь же, приучайтесь широкой рукой давать его тому, кому оно нужно…».
Огромное, милосердное сердце самого Евгения Сергеевича предопределило его жизнь и подвиг.
Беспредельно добрый, обладавший типично «чеховской» внешностью, с которой невольно связываешь некую мягкотелость и рефлексию, он был человеком незаурядной храбрости. Из дневника доктора Боткина периода Русско-японской войны 1904-1905 гг.: «За себя я не боялся: никогда еще я не ощущал в такой мере силу своей веры. Я был совершенно убежден, что как ни велик риск, которому я подвергался, я не буду убит, если Бог того не пожелает, - а если пожелает, - на то Его святая воля. Я не дразнил судьбу, не стоял у орудий, чтобы не мешать стреляющим, но я сознавал, что я нужен, и это сознание делало мое положение приятным». Дома у Евгения Сергеевича оставалась жена с тремя маленькими детьми.
Страницы фронтового дневника отражают события, в которых он – непосредственный участник, и передают тяжко гнетущее его предвидение того, как гибельно аукнется для России поражение русской армии. « Лаоян, 16 мая 1904 года. ., воскресенье ...Удручаюсь все более и более ходом нашей войны, и не потому только, что мы столько проигрываем и столько теряем, но едва ли не больше потому, что целая масса наших бед есть только результат отсутствия у людей духовности, чувства долга…мелкие расчеты становятся выше понятий об Отчизне, выше Бога» ; Чита, 1 марта 1905 года: «…Прочел о падении Мукдена и об ужасном отступлении нашем к Тельпину. Отчаяние и безнадежность охватывают душу…Что-то будет у нас в России. Бедная, бедная Родина».
2 февраля 1904 года Постановлением Главного Управления Российского Красного Креста доктор Боткин был назначен главноуполномоченным по медицинской части при действующих армиях.
«За отличия, оказанные в делах против японцев» его наградили офицерскими боевыми орденами святого Владимира 4 и 3 степени с мечами. 6 мая 1905 года Евгения Сергеевича пожаловали в почетные лейб-медики. На фронте он оставался до конца сентября.
Мужественным, твердым и добрым знали доктора боевые соратники и сослуживцы. Таковым же узнают и большевики. И тоже наградят - пулей в мрачном ипатьевском подвале.
Судьбоносным для Евгения Сергеевича стало назначение в апреле 1908 года лейб-медиком Царской семьи.
Императрица Александра Феодоровна выразила желание, чтобы доктор Боткин, «тот, который был на войне», стал Их семейным врачом. Вырубова: «Помню, как я была рада, когда Она, наконец, позвала доктора. Выбор ее остановился на Е.С. Боткине, враче Георгиевской общины, которого она знала с Японской войны, - о знаменитости она и слышать не хотела. Императрица приказала мне позвать его к себе и передать Ее волю. Доктор Боткин был очень скромный врач и не без смущения выслушал мои слова. Он начал с того, что положил Государыню на 3 месяца в постель, а потом совсем запретил ходить, так что Ее возили в кресле по саду. Доктор говорил, что Она надорвала сердце, скрывая свое плохое самочувствие».
Осенью 1908 года доктор с семьей обосновался в Царском Селе. Каждое утро, в начале десятого, он приходил во дворец. Т.Е.Мельник-Боткина: «Государыня и Великие Княжны всегда расспрашивали о нашей семье, так что в конце концов Они знали весь наш образ жизни и привычки… знали нас по именам, постоянно посылали поклоны, иногда персик или яблоко, иногда цветок или просто конфетку, если же кто-нибудь из нас захварывал, - со мной это случалось часто, - то непременно каждый день даже Ее Величество, справлялась о здоровье, присылала святую воду или просфоры, а когда меня остригли после брюшного тифа, Татьяна Николаевна собственноручно связала голубую шапочку… Великие Княжны знали <нас> в лицо, и всегда, увидав кого-нибудь из нас на улице, на следующий день говорили моему отцу:
— А мы Вашу дочь видели или Вашего сына». Великие Княжны придумали игру – Они разыскивали доктора во дворце по запаху крепких парижских духов, которыми всегда благоухал Евгений Сергеевич.
Генерал Мосолов: «Боткин был известен своей сдержанностью. Никому из свиты никогда не удалось узнать от него, чем больна Государыня и какому лечению следуют Царица и Наследник».
Цесаревич был самым обожаемым и самым тяжелым его пациентом. Из Спалы, когда врачи признались в своем бессилии помочь Ребенку, доктор писал родным: «Спала. 9.Х.1912. ...Сегодня особенно часто вспоминаю Вас и ясно представляю, что должны Вы были почувствовать, увидав в газетах мое имя под бюллетенем о состоянии здоровья нашего ненаглядного Алексея Николаевича... Я не в силах передать Вам, что я переживаю... Я ничего не в состоянии делать, кроме как ходить около Него... Ни о чем не в состоянии думать, кроме как о Нем, о его Родителях... Молитесь, мои детки, ...молитесь ежедневно, горячо за нашего драгоценного Наследника...»
Молились Татьяна и Глеб Боткины, молилась Россия. И чудо свершилось - Господь показал, какую силу имеет соборная молитва народа:
«Спала. 14X1912. ...Ему лучше, нашему бесценному больному. Бог услышал горячие молитвы, столькими к Нему возносимые, слава Тебе Господи. Но что это были за дни... Как годы легли они на душу... И сейчас она еще не может вполне расправиться, - так долго бедному Наследнику еще нужно будет поправляться и столько еще случайностей может быть на пути...;
Спала. 19X1912. ...Нашему драгоценному больному, слава Богу, значительно лучше... Но писать я все-таки еще не успеваю: целый день около Него. По ночам тоже еще дежурим...;
Спала. 22X1912. ...Нашему драгоценному Наследнику, несомненно, значительно лучше, но Он еще требует большого ухода, и я целый день около Него, за очень малыми исключениями (трапезы и т. п.), и каждую ночь дежурил - ту или другую половину. Теперь мне будут давать через две ночи в третью отдых. Сегодня дежурил первую половину, иззяб как всегда, и совершенно не в силах был писать, а, благо, наш золотой больной спал, сам уселся в кресло и вздремнул».
Из письма Государя Императрице Марии Федоровне от 20 октября 1912 года:
«…Дни от 5-го до 10-го октября были самые тяжелые. Несчастный маленький страдал ужасно…боли схватывали его спазмами и повторялись почти каждые четверть часа. От высокой температуры он бредил и днем и ночью…Спать почти не мог, плакать тоже, только стонал и говорил: «Господи, помилуй»… Должен предупредить тебя со слов докторов, что выздоровление Алексея будет медленное, он все еще ощущает боль в левом колене, которое до сих пор не может разогнуть и лежит с подушками под этой ногой. Но это их не беспокоит. Главное, чтобы внутреннее рассасывание продолжалось, а для этого нужен покой. Цвет лица у него теперь хороший, а раньше был совсем как воск, и руки и ноги также. Похудел он страшно, но зато и начали его питать доктора!..»
Все, что касалось Августейшей Семьи, горячо трогало доктора. А идеальность отношений восхищала, тем более, что его собственная семейная жизнь была трагична: умер полугодовалый первенец, ушла из семьи жена, оставив на руках Евгения Сергеевича четверых детей. Сын Дмитрий, хорунжий лейб-гвардии Казачьего полка, погиб в первый год Мировой войны.
Государя доктор обожал институтски-восторженно:
«6.IX.1908… Как Он тронул меня третьего дня, …я пришел в самом тревожном состоянии, вследствие отсутствия известий о Вас, и потираю холодные руки, которые только что вымыл. Государь подходит ко мне и так ласково говорит: «Что это у Вас, Е. С., зазябший какой вид?» - и обеими руками берет мои холодные. Ну, разве не трогательно это чутье и эта милая, должен сказать, ласка?..»;
«Фридберг. 15(28).1Х.191О. …это такая доброта, такая бесконечная доброта - наш Царь, что я и сказать не могу... Ну, например, наши утренние прогулки: мне положительно кажется, что Он предпочитал бы делать их с Дрентельном, что я гораздо менее интересен, чем Дрентельн, иногда, может быть, даже мешаю. Но Государь знает, как я наслаждаюсь и дорожу ими, и всегда берет меня с собой. А если я несвободен, то Он непременно выразит мне сочувствие, удивительно сердечно и просто... Господи! Да разве я мог рассчитывать на такое счастье, чтобы каждое утро гулять с Государем? Да, я каждую прогулку считаю за особый праздник...
... Все это я пишу, конечно, только для Вас, для семьи, потому что меня бы не поняли или приняли за хвастовство. Так и Вы не рассказывайте, а я от умиления это выболтал, от полноты души...» (Из писем доктора Боткина).
Царских Детей доктор избрал примером для воспитания своих собственных и часто рассказывал о Них:
«Мой отец всегда говорил нам, что любит Их Высочества не меньше нас, своих детей. Рассказывал, как Они трогательно дружны между собой, как Анастасия Николаевна любит Ольгу Николаевну, всюду ходит за ней и с уважением и нежностью целует у нее руки; как они просты в своей одежде и в образе жизни, так что Алексей Николаевич донашивал старые ночные рубашки своих сестер: «Я удивляюсь Их трудоспособности. Уже не говоря про Его Величество, который поражает тем количеством докладов, которые он может принять и запомнить. Но даже Великая Княжна Татьяна Николаевна. Она встает в 7 часов утра, чтобы взять урок, потом Они едут на перевязки, потом завтрак, опять уроки, объезд лазаретов, а как наступит вечер, они сразу берутся за рукоделие или за чтение…» (Т.Е.Мельник-Боткина).
В 1911 году Татьяну и Глеба Боткиных привезли в Крым, на яхту «Штандарт», к заболевшему отцу. С трепетом они поднялись на сверкавший на южном солнце "Штандарт». В маленькой, уютной каютке отца «только что мы успели поздороваться, как за дверьми послышались шаги, голоса, смех, затем стук в дверь, и появились все четыре Великие Княжны. …Старшие были в белых юбках и бледно-голубых вышитых блузках, а младшие - в красных с серыми горошинками юбках и белых блузках...
Великие Княжны страшно мило с нами поздоровались, задали несколько вопросов о нашем путешествии, на которые мы еле-еле от смущения отвечали, а затем собрались уходить. Мой отец попросил Татьяну Николаевну спросить у Ее Величества, разрешит ли Она нам приехать и завтра.
Через несколько минут Татьяна Николаевна вернулась:
— Мама сказала, что Таня и Глеб, пока Вы больны, могут приезжать каждый день.
Можно себе представить нашу радость и то нетерпение, с которым мы каждый день ждали двух часов, т. е. отхода катера с Графской пристани на «Штандарт».(Т.Е.Мельник-Боткина).
Из письма доктора Боткина старшим братьям: «Штандарт». Севастополь. Сентябрь 1911 г.
…Я испросил для них <
детей
> Высочайшее разрешение навестить меня в моей каюте, и им было разрешено бывать у меня каждый день.
..Мне гораздо лучше, и я должен благодарить Бога за свою болезнь: она не только доставила мне радость принять наших дорогих маленьких…но дала им необычайное счастье быть обласканными всеми Великими Княжнами, Наследником Цесаревичем и даже Их Величествами. Я также истинно счастлив не только этим, но и безграничной добротой Их Величеств. Чтоб успокоить меня, Императрица каждый день приходит ко мне, а вчера был и сам Государь. Я не в силах передать Вам, до какой степени я был тронут и счастлив. Своей добротой Они сделали меня рабом Своим до конца дней моих...».
Из дневника доктора: «Штандарт». 14.VII.1911… Они <Великие Княжны> по-прежнему очаровательны, хотя все очень выросли, и отношение их ко всем стало более взрослым, я бы сказал, еще более сердечным, потому что более глубоким. Я никогда не забуду их тонкое, совсем непоказное, но такое чуткое отношение к моему горю, когда я был так встревожен Танюшкиным тифом... Алексей Николаевич тоже растет, а с ним и его очарование. О Родителях я не говорю: моя любовь к Ним и преданность безграничны».
Через 6 лет чувства доктора не изменились настолько, что с момента ареста Семьи он уже больше не разлучался с Ними до Их и своего смертного часа.
Впрочем, Семья отвечала ему такой же любовью.
Из письма к детям: «26.111.1914. (По дороге в Севастополь.)... Сегодня после завтрака я носил Алексею Николаевичу показывать свою замечательную пепельницу... Он был очень доволен и очень хвалил, но, т. к. я застал его, когда Жильяр ему что-то интересное рассказывал, я…поспешил уходить. Когда я в дверях раскланивался, этот ненаглядный мальчик, улыбаясь мне, сказал: «Аu revoir Monsieur, Je Vous aime de tout mon petit coeur» (До свидания, я люблю вас всем своим маленьким сердцем). Это ли не очарование?..».
Цесаревичу очень нравилось, как Глеб рисует животных. Он переписал на листе бумаги любимые стихи, подписал «Алексей» и отдал Евгению Сергеевичу, с тем, чтобы Глеб нарисовал к ним иллюстрации. Но тут же забрал обратно и зачеркнул свою подпись. «Зачем Вы это сделали? - спросил доктор. – Я не могу послать этот листок Глебу со своей подписью, - серьезно ответил Алексей Николаевич. – Это будет приказ, которому Глебу придется подчиниться. Я же обращаюсь к нему с просьбой, и если он не захочет, может ее не выполнять». Это ли не очарование? - повторим и мы, вслед за доктором Боткиным.
Евгений Сергеевич полностью разделял слова, сказанные как-то полковником Кобылинским: «Когда имеешь постоянное общение с этой Семьей, тогда понимаешь, как пошло и подло обливали <Ее>грязью. Можно себе представить, что Они переживали и чувствовали, когда читали в Царском милые русские газеты».
Татьяна Евгеньевна вспоминала, что перед революцией чуть ли не каждый уважающий себя человек (она имеет в виду людей своего круга) считал «своим долгом» как-то задеть если не Государыню, то Государя. Общество с энтузиазмом приняло думскую речь Милюкова, заявившего, что у него имеются неопровержимые доказательства тайных сношений Государыни, Царского правительства и Двора с Германией. В эмиграции он признался, что клеветал «ради революционной тактики». Но чего другого ждать от Милюкова, Гучкова и К.
Другое дело – монархисты. Евгений Сергеевич возмущался и поражался, что «люди, говорящие об обожании Его Величества, могут так легко верить всем распространяемым сплетням, могут сами их распространять».
«И этот смрад идет не из народных кварталов, а из салонов. Какой стыд! Какое ничтожество! Можно ли быть до такой степени лишенным совести, патриотизма и веры!» (Из разговора Государя с М. Палеологом)
Высшие круги поняли слишком поздно, какую неоценимую услугу оказали революционерам.
«Мы сами во всем виноваты, - каялась некая дама. - Если бы мы имели достаточно уважения к Царской Семье, чтобы удерживать свои языки от сплетен, то революционерам было бы гораздо труднее подготовить свое страшное дело».
Окончательное отрезвление произойдет после октября 1917 г. И будет обескураживающим: «Насладившись в полной мере великолепным зрелищем революции, наша интеллигенция приготовилась надеть свои подбитые мехом шубы и возвратиться обратно в свои уютные хоромы, но шубы оказались украденными, а хоромы были сожжены» (В.В.Розанов).
Либеральные блуждания самого доктора прошли, как детская болезнь, - быстро и без рецидивов: «…Сегодня утром опять говорила с Боткиным. Это ему на пользу, помогает мыслям его выбраться на правый путь, так как он не вполне как должно понимал все. Приходится быть лекарством для смущенных умов, подвергшихся влиянию городских микробов…»(Из письма Государыни в Ставку от 4 сентября 1915 г.)
Во время 1 Мировой войны Евгений Сергеевич по приказу Государя оставался в Царском. Только дважды он побывал в Ставке, но «жизнь в Могилеве, протекавшую в непосредственной близости к Государю Императору, вспоминал всегда, как самую счатливую. Особенно были дороги для отца вечера, когда Государь приходил отдохнуть и сыграть в домино или кости с лицами своей свиты: Воейковым, Ниловым, Мосоловым, флигель-адъютантом князем Игорем Константиновичем, моим отцом и другими. …Приносили самовар, и Его Величество лично разливал чай. За столом велись разнообразные разговоры; очень часто Его Величество рассказывал что-нибудь, и мой отец всегда любовался содержательностью и ясной простотой Его рассказов». (Т.Е.Мельник-Боткина).
Евгений Сергеевич включился в организацию госпиталей и лазаретов. Из дневника хирурга Царскосельского госпиталя, княжны В. И. Гедройц, от 20 августа 1914 года:
«...Коллегия постановила для нужд военного времени занять хирургическое отделение госпиталя. ...Открыть его предполагалось в сентябре, и за такое короткое время если и удалось выполнить это задание, то только благодаря тому состоянию внутреннего подъема, который охватил, казалось, все слои населения. Какие-то незнакомые купцы с жирными животами привозили мед для раненых, жертвовали муку, папиросы, конфеты, белье; раненых еще не было, но пожертвования сыпались точно из рога изобилия.
Более 30 дачевладельцев предложили свои особняки и полное оборудование для лазарета. Другие жертвовали деньгами, и в короткое время, при энергии Евгения Сергеевича Боткина, Сергея Николаевича Вильчковского и моей скромной помощи 30 лазаретов в Царском Селе были готовы к принятию раненых...С первых же дней началась подготовка санитарных поездов имени Императрицы и Великих Княжон, которые должны были привозить раненых прямым маршрутом в Царское с позиций. Поезда эти были обставлены просто, но снабжены всем необходимым; и благодаря быстрой и целесообразной доставке раненых спасли жизнь не одному из этих страдальцев».
Из письма Государыни в Ставку: «15 декабря 1914 г….Боткин получил извещение из полка, что его сын <
Дмитрий
> был убит, так как не хотел сдаться в плен – немецкий офицер, пленный, сообщил это. Бедняга совершенно подавлен». Глеб Боткин писал, что отец, после гибели сына, «становится все более и более ортодоксальным в своих религиозных взглядах и развил в себе явное отвращение к «плоти».
Но светлые минуты случались и в войну: из письма Государыни от 26 октября 1916: «Свадьба в нашем лазарете была очень мило отпразднована, красивая пара, - я была «посаженой матерью», а Боткин «посаженым отцом». Вечер уютно проведу в лазарете…»
В кровавые дни «бескровной революции» Евгений Сергеевич оставался в числе тех, кто осознавал глубину пропасти, в которую ринулась Россия за призраком «свободы». Ликовали ухватившие власть ничтожества и интриганы. Куда уж дальше – Великий Князь Кирилл Владимирович нацепил красный бант.
Мысли некоего «А» об отречении Императора, которые он приводит в письме к сыну из Александровского Дворца от 16 апреля 1917, – это и его мысли:
« ..Мне хочется перевести Вам несколько удивительных строк, подписанных «А.», из № 77 Journal des Debats от 18 марта с. г.«… Как ни больно ему было расстаться с властью, которой он считал себя как бы священным носителем и которую он проявлял по велениям своей совести, чтобы передать ее неподточенной своему преемнику, он должен был признать себя человеком другого века. Если у него сохранились еще иллюзии относительно чувств тех элементов, которые считались до сих пор столпами империи и самодержавия, он должен был потерять их в течение последних дней... Манифест, которым он слагает с себя верховную власть, являет собой благородство и высоту мысли, достойные восторга (admirable). Он не содержит ни тени горечи, ни упреков, ни сожаления. Он проявляет полное самопожертвование. Он желает России в самых горячих выражениях осуществления ее главных назначений. Тем способом, которым он сходит с трона, Николай II оказывает своей стране последнюю услугу— самую большую, которую он мог оказать в настоящих критических обстоятельствах. Очень жаль, что Государь, одаренный такой благородной душой, поставил себя в невозможность продолжать править...»
Эти золотые слова сказаны в республиканской газете свободной страны. Если бы наши газеты так писали…»
Доктор дни и ночи проводил во дворце, с Августейшими Детьми. Его дочь Татьяна в это же время болела ревматизмом. Она лежала в доме старого друга семьи, - Устиньи Александровны Тевяшовой, плохо представляла, насколько далеко зашли революционные события, и потому была крайне поражена, когда 2 марта пришли арестовывать ее высокопоставленного отца.
Придворная карета, украшенная орлами, в которой Евгений Сергеевич заехал ее навестить, роскошный кучер в треуголке, сверкающая упряжь привлекли внимание солдат с красными бантами. Они подошли ближе и с триумфом обнаружили пальто на красной генеральской подкладке. Бесспорная улика позволяла не откладывать революционный суд в долгий ящик. Всей толпой ввалились в дом и объявили хозяйке, что сейчас арестуют генерала Боткина, так как, им «велено всех генералов арестовывать».
«Мне тоже все равно, кого Вы должны арестовывать, а я думаю, что, разговаривая со мной, вдовой генерал-адъютанта, вы, во-первых, должны снять шапку, а, во-вторых, можете отсюда убираться, - величественно ответила Устинья Александровна. Повнимательнее глянув на низенькую пожилую даму, товарищи почему-то мгновенно утратили боевой пыл, покорно сняли шапки и удалились.
Арестантом доктор все-таки стал. Но добровольно и вместе с Государыней. Помимо исполнения профессиональных обязанностей, он с удовольствием занимался с Наследником русским чтением. Оба увлекались лирикой Лермонтова. Под руководством доктора Алексей Николаевич учил стихи наизусть и писал переложения и сочинения.
Татьяне Евгеньевне дважды позволили встретиться с отцом. Заключенные быстро разобрались в настроениях охранников, поэтому доктор для свиданий с дочерью выбирал дежурства запасного 4-го Стрелкового Императорской Фамилии полка. Они встречались у ворот парка и шли в караульное помещение. А уходила Татьяна Евгеньвна до смены караула и появления 1-го или 2-го полка.
12/25 апреля Евгений Сергеевич атаковал Керенского. Пока тот, как обычный визитер, ожидал аудиенции у Их Величеств, доктор заявил, что все члены Царской Семьи по состоянию здоровья нуждаются в отдыхе в лучшем климате. Керенский слушал вежливо, Евгению Сергеевичу не возражал, наоборот, дал понять, что вскоре устроит Их отъезд в Крым. Доверчивый Евгений Сергеевич, привыкший иметь дело с людьми, отвечающими за свои слова, остался очень доволен результатом переговоров. Керенский (повторимся) был вежлив и сдержан, но, по обыкновению, лгал. Через три месяца доктор Боткин уехал с Царской Семьей в другие края.
Из Тобольска, убедившись, что Царскую Семью заперли в Доме свободы, доктор Боткин снова обратился к Керенскому. 15 сентября 1917 года из Петрограда пришел ответ:
«Евгений Сергеевич.
По поручению министра-председателя сообщаю Вам, что изложенная в письме Вашем от 26 августа просьба о разрешении бывшему царю и его семье прогулок за городом и посещении церковных служб, министром-председателем удовлетворена.
Начальник канцелярии министра-председателя В. Сомов»
Доктор предъявил письмо Панкратову. После долгих раздумий тот изложил свое мнение в донесении на имя Керенского от 30 сентября: «В присланной мне бумаге... предлагается разрешать бывшему царю и его семье загородные прогулки и посещение церкви. Последнее уже делается. Что же касается прогулок, то в настоящее тревожное время... я отказал... Но как только все успокоится и представится возможность устроить загородную прогулку безопасно, - я это сделаю. Бумага, присланная В.Сомовым, не подписана Вами, Александр Федорович. Я просил бы прислать мне таковую с Вашей подписью».
Панкратов на собственном опыте знал, что значит сидеть взаперти. Не зря так подробно и с психологическими подробностями описал посещение Царской Семьей Благовещенской церкви. Им всего лишь нужно было перейти улицу, но «по выражениям лиц, по движениям можно было предполагать, что они переживали какое-то особенное состояние. Анастасия даже упала, идя по саду и озираясь по сторонам. Ее сестры рассмеялись, даже самому Николаю доставила удовольствие эта неловкость дочери…На самом же деле этот сад находился как раз против их балкона, откуда они могли наблюдать его каждый день. Но, - тонко заметил Панкратов, - одно дело видеть предмет издали и как бы из-за решетки, а другое - почти на свободе. Всякое дерево, всякая веточка, кустик, скамеечка преобретают свою прелесть…».
Скоро Семье и приближенным откажут и в этом маленьком путешествии.
14 сентября в Тобольск приехали Татьяна и Глеб Боткины.
В доме Корнилова в распоряжении доктора имелись две комнаты. В большей, с окнами на Дом свободы, поселилась Татьяна Евгеньевна, в проходной – Евгений Сергеевич и Глеб. Государыня и Великая Княжна Ольга Николаевна прислали Татьяне Евгеньевне желтый штофный диванчик с двумя вышитыми подушками и стул к письменному столу.
В Дом свободы Татьяну и Глеба не допустили даже на праздничную елку в Рождество. Августейшим Детям, просившим за них и баронессу Буксгевден, комиссар Панкратов ответил, что если Им доставить такое удовольствие, то потом Они будут еще больше скучать. «Эта своеобразная забота об Их Высочествах лишила нас громадного наслаждения, которое мы могли иметь с полным правом, т. к. всей прислуге, до последней поломойки, разрешено было получать подарки из рук Их Высочеств» (Т.Е.Мельник-Боткина).
К Цесаревичу не допустили городских детей, которые очень хотели спеть Ему рождественские колядки: « Это было, очевидно, сделано просто из желания показать свою власть и лишить нас всех лишнего развлечения» (Т.Е.Мельник-Боткина).
На празднике разрешили присутствовать только Коле Деревенко.
Дети смирились. Младшие веселились, а старшие, говорила позже баронессе Буксгевден Ольга Николаевна, старались казаться веселыми ради Родителей.
Доктор Боткин откровенно игнорировал апрельское постановление Отрядного комитета, продолжая на виду у всех носить форменное генеральское пальто и погоны с вензелями Государя. Комитетчики почему-то долго не решались подступиться к нему, но затем попросили доктора подчиниться, оговорив, что сами они, собственно, ничего против не имеют, но красногвардейцы заинтересовались, что тут за генерал ходит. На это доктор ответил, что погон не снимет, но если это грозит неприятностями, просто переоденется в штатское.
А ходить и ездить Евгению Сергеевичу приходилось много. Его врачебная практика развивалась и ширилась. Самые светлые воспоминания доктор сохранил о тяжелой работе, фактически работе простого земского врача, которую назвал своей «лебединой песнью». Из письма младшему брату Александру: «…Ты поинтересовался моей деятельностью в Тобольске. Что же? Положа руку на сердце, могу признаться, что там я всячески старался заботиться «о Господнем, како угодити Господу» и «како не посрамити выпуска 1889-го года».
И Бог благословил мои труды, и я до конца своих дней сохраню это светлое воспоминание о своей лебединой песне. Я работал из всех своих последних сил, которые неожиданно разрослись там, благодаря великому счастию совместной жизни с Танюшей и Глебушкой, благодаря хорошему, бодрящему климату и сравнительной мягкости зимы, и благодаря трогательному отношению ко мне горожан и поселян. Собственно говоря, Тобольск только в центре своем, правда, обширном, представляет собой город... к периферии же он постепенно и незаметно переходит в настоящую Деревню. Это обстоятельство наряду с благородной простотой и чувством собственного достоинства сибиряков придает, по-моему, всем отношениям жителей между собой тот характер непосредственности, безыскусственности и доброжелательства, который мы с тобой всегда так ценили и который создает потребную нашим душам атмосферу. К тому же первые же счастливые случаи, в которых Бог помог мне оказаться полезным, вызвали такое доверие ко мне, что желающих получить мой совет росло с каждым днем вплоть до внезапного и неожиданного моего отъезда… И время мое было расписано за неделю и за две вперед по часам, так как больше шестисеми, в экстренных случаях, восьми больных в день я не в состоянии был навестить: все ведь это были случаи, в которых нужно было очень подробно разобраться и над которыми приходилось очень и очень подумать... Я никому не отказывал, если только просившие не хотели принять в соображение, что та или другая болезнь совершенно выходит за пределы моих знаний. Я отказывался только идти к только что заболевшим, если, разумеется, не требовалась немедленная помощь, так как, с одной стороны, время мое уже было обещано вперед другим, а, с другой, я не хотел становиться на пути постоянных врачей Тобольска. Все это очень знающие и опытные люди, прекрасные товарищи и настолько отзывчивые, что публика Тобольска привыкла присылать прямо лошадь или извозчика к доктору и тотчас же его получить…От 3 до 4 1/2-5 я всегда бывал дома для наших солдат, которых исследовал в своей спальне. В эти же часы ко мне приходили мои городские больные. Приходилось делать исключение для крестьян, приезжавших ко мне из деревни за десятки и даже сотни верст. Их я вынужден бывал исследовать в маленькой комнатке перед ванной, причем диваном мне служил большой сундук. Их доверие меня особенно трогало, и меня радовала их уверенность, которая их никогда не обманывала, что я приму их с тем же вниманием и лаской, как всякого другого больного, имеющего все права на все мои заботы и услуги. Кто из них мог переночевать, того я на следующее утро пораньше навещал на постоялом дворе. Они постоянно пытались платить, но т. к. я, следуя нашему старому кодексу, разумеется, никогда с них ничего не брал, то, пока я был занят в избе с больным, они спешили заплатить моему извозчику. Это удивительное внимание, к которому мы в больших городах совершенно не привыкли, бывало иногда в высокой степени уместным, т. к. в иные периоды я бы не в состоянии был навещать больных вследствие отсутствия денег и быстро возрастающей дороговизны извозчиков. Поэтому в наших обоюдных интересах я широко пользовался другим местным обычаем и просил тех, у кого есть, присылать за мной лошадь. Таким образом улицы Тобольска видели меня едущим и в широких архирейских санях, и на прекрасных купеческих рысаках, но еще чаще потонувшим в сене на самых обыкновенных розвальнях. Столь же разнообразные были и мои друзья, что, может быть, и не всем нравилось, да мне-то до этого никакого не было дела …»
Доктор написал это письмо после, как он указывает, своего «внезапного отъезда» из Тобольска.
Он уехал в Екатеринбург с Царской Четой, хотя вполне мог остаться, причин нашлось бы предостаточно: болезнь Алексея Николаевича, его собственные, с трудом добравшиеся до Тобольска, дети. Да и просто отсутствие специальных распоряжений о нем лично.
Но доктор Боткин давно уже «отверг себя» (Мф.,16,24). Он потому и ехал, что это было смертельно опасно. Александра Феодоровна по той же причине решилась оставить больного Сына. Прекрасно понимая родительские чувства доктора, Государыня не сдержала слез, когда на вопрос: «А как же ваши дети?» – Боткин ответил, что на первом месте для него всегда стоят интересы Их Величеств. Несколько месяцев назад, в Александровском дворце, Государыня также была тронута, когда доктор, не промедлив секунды, ответил согласием уехать с Семьей за границу, если такое случится.
Доктор не только навсегда расставался со своими детьми - ему не разрешили (
о, воспетая советскими «инженерами человеческих душ» большевистская гуманность!
) проститься с ними перед отъездом, поговорить и благословить в последний раз. По приказу комиссара Яковлева доктор был арестован и переведен из дома Корнилова в «Дом свободы», а Татьяна и Глеб Боткины не имели права прийти к нему туда. Их «милый, золотой, ненаглядный папулечка» взял маленький чемоданчик со сменой белья, лекарствами и умывальными принадлежностями, перекрестил и поцеловал дочку и сына и ушел от них навсегда. Татьяна Евгеньевна смотрела, как он осторожно, на каблуках переходил грязную улицу в своем штатском пальто и фетровой шляпе. Глеб Евгеньевич вспоминал, что, словно предчувствуя будущее, отец сказал им: «В этот час я должен быть с Их Величествами, - остановился, с видимым усилием подавляя чувства, потом продолжил, - Может быть, мы больше никогда не увидимся…Да благословит вас Бог, дети мои!»
Вечером того же дня к ним прибежала преподавательница Детей Клавдия Михайловна Битнер:
«Я пришла Вам сказать по секрету, что сегодня ночью увозят Николая Александровича и Александру Федоровну. Ваш отец и Долгоруков едут с ними. Так что, если хотите что-либо папе послать, то Евгений Степанович Кобылинский пришлет солдата из караула».
Дети поблагодарили ее, уложили вещи, и вскоре получили прощальное письмо от отца.
Ночь на 26 апреля Татьяна Евгеньевна просидела у окна, наблюдая за приготовлениями к отъезду. Заметила, что отец одет, вместо своей шубы, в заячий тулупчик князя Долгорукова.
В 5 часов утра повозки тронулись. Татьяна Евгеньевна последний раз видела Государя, его доброе лицо с бодрой улыбкой. Потом проехали сани с солдатами, возок Государыни и улыбавшейся Великой Княжны Марии Николаевны. Опять солдаты. Потом с ее окном поравнялись сани с доктором и князем Долгоруковым: «Мой отец заметил меня и, обернувшись, несколько раз благословил».
«Я посмотрела в сторону губернаторского дома. Там на крыльце стояли три фигуры в серых костюмах <
Три Царевны
> и долго смотрели вдаль, потом повернулись и медленно, одна за другой, вошли в дом».
Из дневника Государыни: «14/27 апреля. Суббота. Лазарево Воскресение. Встали в 4 часа, пересекли реку в 5 час. По доскам, затем на пароме...Прекрасная погода, дорога отвратительная… Е.С. <
Боткин>
слег из-за ужасных коликов в почках…»
Жуткая тряска вызвала такой острый приступ, что доктор не мог сдержать стон, лежа на дне телеги. Из письма Великой княжны Марии Николаевны З.С.Толстой из Екатеринбурга от 4/17 мая 1918 г.:
«…Мы как раз уехали перед праздниками. Это было для нас очень неожиданно… С нами приехал доктор Боткин, у него, бедного, по дороге сделались колики в почках, он очень страдал. Мы остановились в деревне, там его положили в избу, он отдохнул два часа и поехал с нами дальше. К счастию, боли не повторились…»
Комиссар Яковлев не рассматривал его страдания в качестве препятствия к продолжению пути: «Вперед, и дикая скорость…» (из дневника Александры Феодоровны).
Из Екатеринбурга Евгений Сергеевич написал дочери, что их поместили в приличном доме,
в трех комнатах. В одной - Их Величества и Великая Княжна Мария Николаевна, в другой - Демидова, в столовой на полу - сам доктор и лакей Т.И.Чемодуров.
Высокий забор позволял видеть из окна только золотой крест собора, но это «доставляло им много удовольствия».
Последнее письмо от отца Татьяна Евгеньевна получила еще до отъезда Детей из Тобольска, 3 /16 мая. Она отметила, что, несмотря на его кротость и всегдашнее желание во всем видеть только хорошее, письмо было мрачным. «Если в тоне отца проскальзывало недовольство, и если он начинал считать охрану резкой, то это значило, что жизнь там очень тяжела, и охрана начала издеваться».
Болезнь Алексея Николаевича в ДОНе вновь обострилась. Доктор Боткин и сам не блещет здоровьем: приступы почечной колики периодически укладывают его в постель.
Из дневника Государыни:
«10/23 июня, воскресенье. Ходили с Татьяной к Е.С., у которого камни в почках, и она сделала ему укол морфия. С 6 часов очень сильные боли – он в постели, ем с ним;.
12/25 июня, вторник.
У Е.С. ночь прошла хорошо, он все еще в постели, так как чувствует слабость и боль, когда встает;
13/26 июня, среда. Е.С.встал первый раз…Ольга осталась со мной. Е.С. сидел с нами…;
24 июня/7 июля, воскресенье. Утром в первый раз выходил Евгений Сергеевич…»
Уход за Цесаревичем требовал столько сил, что Семья и трое слуг не справлялись, и Евгений Сергеевич пишет письмо:
«В Областной Исполнительный комитет господину Председателю.
Как врач, уже в течение десяти лет наблюдающий за здоровьем семьи Романовых, обращаюсь к Вам, г-н Председатель, со следующей усерднейшей просьбой. Алексей Николаевич подвержен страданиям суставов под влиянием ушибов, совершенно неизбежных у мальчика его возраста.. и жесточайшими вследствие этого болями. День и ночь в таких случаях мальчик так невыразимо страдает, что никто из ближайших родных его, не говоря уже о хронически больной сердцем матери, не жалеющей себя для него, не в силах долго выдержать ухода за ним. Моих угасающих сил тоже не хватает. Состоящий при больном Клим Григорьев Нагорный, после нескольких бессонных и полных мучений ночей сбивается с ног и не в состоянии был бы выдерживать вовсе, если на смену и в помощь ему не являлись бы преподаватели Алексея Николаевича г-н Гиббс и, в особенности, воспитатель его г-н Жильяр.. Оба преподавателя, особенно, повторяю, г-н Жильяр, являются для Алексея Николаевича совершенно незаменимыми, и я, как врач, должен признать, что они зачастую приносят более облегчения больному, чем медицинские средства, запас которых для таких случаев, к сожалению, крайне ограничен. Ввиду всего изложенного я и решаюсь, в дополнение к просьбе родителей больного, беспокоить Областной Исполнительный Комитет усерднейшим ходатайством допустить гг. Жильяра и Гиббса к продолжению их самоотверженной службы при Алексее Николаевиче Романове, а ввиду того, что мальчик как раз сейчас находится в одном из острейших приступов своих страданий, особенно тяжело им переносимых вследствие переутомления путешествием, не отказать допустить их - в крайности же - хотя бы одного г. Жильяра, к нему завтра же Ев. Боткин».
На прошении доктора наложена резолюция коменданта ДОНа Авдеева: «Просмотрев настоящую просьбу доктора Боткина, считаю, что из этих слуг один является лишним, т. е. дети все являются взрослыми и могут следить за больным, а поэтому предлагаю председателю областкома немедля поставить на вид этим зарвавшимся господам ихнее положение».
Рекомендации коменданта были одобрены, приняты за руководство к действию и, в процессе исполнения перевыполнены: лишним посчитали не одного слугу, а двух - увезли в тюрьму и расстреляли дядьку Цесаревича Клима Нагорного и повара Ивана Седнева. Из Дневника Государыни от 14/27 мая: «Бэби снова плохо провел ночь. Боткин сидел с ним часть ночи, чтобы дать Нагорному поспать….В В 6.30 Седнева и Нагорного увели, причины не знаю. Боткин провел ночь с Бэби…»
Один за другим исчезают близкие Семье люди. Бандитов-охранников сменили палачи из ЧК. Ощутимо меняется атмосфера в доме Ипатьева. Это чувствуют не только обитатели ДОНа. «Что-то у них случилось», - заметил о.Иоанну Сторожеву сослужащий диакон 14 июля. «Если будут убивать, лишь бы не мучили», - вырвалось у Цесаревича. Все указывает на то, что страшное уже «при дверех».
Но, по счастью, чудесный Боткин, «преданность которого изумительна» (Жильяр), по-прежнему с Ними. Заботится, оберегает, защищает. Требования «неизменного посредника», как называл его Юровский, заносятся в «Книгу дежурств»:
31 Мая
Просьба гражданина Боткина от имени семейства бывшего царя Николая Романова о разрешении им еженедельно приглашать священника для службы обедни;
3 Июня
По разрешению областного Совета для службы обедни к бывшему царю Николаю Романову были приглашены священник Екатеринбургского собора поп Иван с дьяконом той же церкви;
15 Июня
Боткин просил разрешение написать письмо председателю облсовета по нескольким вопросам, а именно: продлить время прогулки до 2-х часов, открыть створки у окон, вынуть зимние рамы и открыть ход из кухни к ванной, где стоит пост № 2. Написать было разрешено и письмо передано в облсовет;
16 Июня
Утром Боткин просил попа, но ввиду того, что поп занят, просьба была отклонена;.
12 Июля
Доктор Боткин просил пригласить доктора Деревенко и принес рецепты с просьбой купить медикаменты, которые ему были доставлены. Доктора Деревенко также дано обещание пригласить…»
Боткин, по наблюдению члена Областного Совета И.Мейера, настолько ни во что не ставил своих врагов, что, казалось, не признавал себя пленником, - со стражей держал себя «так грубо, как будто она ему подчинена».
Из воспоминаний И.Мейера: «Мы увидели Наследника. Он лежал на кровати, правое колено было в толстой повязке…У ног стоял доктор Б<откин>. Доктор cмотрел на нас испытующе через свои толстые очки. Затем внезапно прозвучал его громкий голос: «Ребенок должен быть определен в больницу. Я больше не имею лекарств и перевязочного материала. Сегодняшние господа должны быть гуманны хотя бы к детям!»
Великан-врач, смело вступавший в полемику с большевиками, произвел на Мейера сильнейшее впечатление. Он еще не раз упомянет о нем и о его пронизывающих глазах, блестевших из- под стекол очков.
Мысли и переживания Евгения Сергеевича в его последние дни отражены в его письме к другу, чудом уцелевшем в диком хаосе, разграблении и уничтожении улик в доме Ипатьева.
По мнению племянника Е. С. Боткина, профессора С. П. Боткина-Чехова (Франция), оно адресовано младшему брату, Александру Евгеньевичу Боткину.
«Екатеринбург, 26 июня (9 июля) 1918 г. Дорогой мой, добрый друг Саша, делаю последнюю попытку писания настоящего письма, - не думаю, чтобы мне суждено было когда-нибудь откуда-нибудь еще писать, - мое добровольное заточение здесь настолько же временем не ограничено, насколько ограничено мое земное существование. В сущности, я умер, - умер для своих детей, для друзей, для дела... Я умер, но еще не похоронен, или заживо погребен, - как хочешь: последствия почти тождественны… Если бы я был фактически, так сказать, — анатомически, мертв, я бы по вере своей, знал, что делают мои детки, был бы к ним ближе и несомненно полезнее, чем я сейчас…У детей моих может быть еще надежда, что мы с ними свидимся когда-нибудь и в этой жизни, но я лично этой надеждой себя не балую, иллюзиями не убаюкиваюсь и неприкрашенной действительности смотрю прямо в глаза.
Пока, однако, я здоров и толст по-прежнему, так, что мне даже противно иной раз увидеть себя в зеркале. Утешаю себя только тем, что раз мне легче было бы быть анатомически мертвым, то значит, детям моим лучше, что я еще жив, т.к. когда я с ними в разлуке, мне всегда кажется, что, чем мне хуже, тем им лучше…Вчера еще, за тем же чтением я услыхал вдруг какое-то слово, которое прозвучало для меня, как «папуля», притом произнесенное, будто, Танюшеным голосом, и я чуть не разрыдался...Это не галлюцинация, потому что слово было произнесено, голос был похож, и я ни секунды не думал, что это говорит моя дочь, которая должна быть в Тобольске.. Конечно, это были бы слезы чисто эгоистические, о себе, что я не могу слышать и, вероятно, никогда не услышу этот милый мне голосок...
…Ты видишь, дорогой мой, что я духом бодр, несмотря на испытанные страдания, которые я тебе только что описал, и добр настолько, что приготовился выносить их в течение целых долгих лет... Меня поддерживает убеждение, что «претерпевший до конца, тот и спасется», и сознание, что я остаюсь верным принципам выпуска 1889-го года.
…Вообще, если «вера без дел мертва есть», то «дела» без веры могут существовать и, если кому из нас к делам присоединилась и вера, то это лишь по особой к нему милости Божьей. Одним из таких счастливцев, путем тяжкого испытания - потери моего первенца, полугодовалого сыночка Сережи, — оказался и я. С тех пор мой кодекс значительно расширился и определился, и в каждом деле я заботился не только о «Курсовом», но «Господнем». Это оправдывает и последнее мое решение, когда я не поколебался покинуть своих детей круглыми сиротами, чтобы исполнить свой врачебный долг до конца, как Авраам не поколебался по требованию Бога принести ему в жертву своего единственного сына. И я твердо верю, что, так же как Бог спас тогда Исаака, Он спасет теперь и моих детей и сам будет им отцом. Но т. к. я не знаю, в чем положит он их спасение и могу узнать об этом только с того света, то мои эгоистические страдания, которые я тебе описал, от этого, разумеется, по слабости моей человеческой, не теряют своей мучительной остроты. Но Иов больше терпел, и мой покойный Миша мне всегда о нем напоминал, когда боялся, что я, лишившись их, своих деток, могу не выдержать. Нет, видимо, я все могу выдержать, что Господу Богу угодно будет мне ниспослать.....»
Библейские события приходят на память не только доктору. Государь, читая с карандашом в руках Книгу, тоже ясно видел, что ничего нового под Солнцем нет и быть не может. Каждое слово Библии – прообраз того, что уже есть и еще будет.
Письмо Евгений Сергеевич не успел дописать…
В течение почти полутора лет заключения мужество не изменяло доктору Боткину. Не изменило оно ему и в очень трудную минуту, когда доктора искушали возможностью свободы. По свидетельству И.Мейера, ему предлагали уехать из Екатеринбурга: «Слушайте, доктор, революционный штаб решил вас отпустить. Вы врач … Вы можете в Москве взять управление больницей или открыть собственную практику. Мы вам дадим рекомендации…Поймите нас правильно. Будущее Романовых выглядит несколько мрачно».
Выразились товарищи предельно ясно. Доктор медленно обвел их взглядом и сказал: «Мне кажется, я вас правильно понял, господа. Но, видите ли, я дал Царю мое честное слово оставаться при Нем до тех пор, пока Он жив. Для человека моего положения невозможно не сдержать такого слова. Я также не смогу оставить Наследника. Как я могу совместить это со своей совестью? Вы все же должны это понять…»
Искусители, конечно, поняли, но предприняли еще одну попытку и напряженно наблюдали, что победит в сидящем перед ними человеке - инстинкт самосохранения или героизм души: «Конечно, мы это понимаем, доктор, но видите ли, сын неизлечим, это вы знаете лучше, чем мы. Для чего вы жертвуете собой, для… скажем мы, для потерянного дела…для чего, доктор?»
«Потерянное дело? – сказал Боткин медленно. Его глаза заблестели. – Ну, если Россия гибнет, могу и я погибнуть. Но ни в коем случае я не оставлю Царя!…Меня радует, что есть еще люди, которые озабочены моей личной судьбой. Я вас благодарю за то, что вы мне идете навстречу….Но...
Там, в этом доме цветут великие души России
…Я благодарю вас господа, но я остаюсь с Царем!» Боткин встал. Его рост отметил Мейер, превышал всех.
А мы добавим, что он превышал всех не только в прямом, но и в переносном смысле.
Мемуары Мейера некоторые историки обвиняют в неточностях, находят несоответствие его описаний реальным событиям. Но, даже если будет доказано, что они вымышлены от начала до конца, нельзя более точно и правдиво отобразить душу Евгения Сергеевича.
С этого момента доктор стал готовиться к своему смертному часу.
В ночь на 17 июля вместе с Царской Семьей он был убит.
Его дети, Глеб и Татьяна, «маленькие», долго скитались по дорогам Гражданской войны, прежде чем выбрались из России. Константинополь, Белград, Париж - они прошли типичным путем русских эмигрантов.
Татьяна Евгеньевна вышла замуж за офицера К.С.Мельника, с которым познакомилась в Тобольске. В 1921 году в Белграде вышла ее книга «Воспоминания о Царской Семье и ее жизни до и после революции». Татьяна Евгеньевна Мельник-Боткина жила во Франции. Скончалась в 1985 году, похоронена на старинном кладбище города Фонтене-а- Розе.
Глеб Евгеньевич Боткин стал журналистом, жил в Америке.