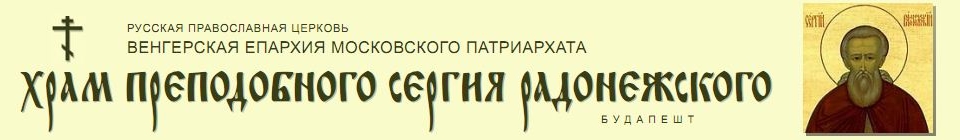ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ПЛАН ПРОЕЗДА
О ПРИХОДЕ
СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ
ХРИСТИАНСТВО
В ВЕНГРИИ
ПРАВОЛСЛАВНАЯ
МИССИЯ В МИРЕ
НАШЕ ПРОШЛОЕ
И НАСТОЯЩЕЕ
МУЧЕНИКИ
И ИСПОВЕДНИКИ
ХРИСТИАНСКИЕ ПРАВЕДНИКИ
ЦЕРКОВЬ
И ГОСУДАРСТВО
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
ВОСПОМИНАНИЯ
И ДНЕВНИКИ
ВСЕХ ИХ СОЗДАЛ БОГ
СОВЕТЫ ВРАЧА
БИБЛИОТЕКА
СТРАНИЦА РЕГЕНТА
ФОТОГАЛЕРЕИ
ДУХОВЕНСТВО ХРАМА
НАШИ РЕКВИЗИТЫ
КОНТАКТЫ
ССЫЛКИ
История жертв
Сергей Сумленный
Источник: журнал "Эксперт"
Моя соседка — медсестра в берлинской больнице — свела себе татуировку. Свела не сегодня, а несколько лет назад, но сегодня, когда мы сидели вместе на террасе и беседовали о моде, речь пошла именно о татуировках, и она рассказал свою историю.
Дело в том, что моя соседка — назовем ее Клаудией — нанесла себе в свое время на внешнюю сторону руки, прямо от запястья вверх к локтю, цепочку китайских иероглифов. Какую-то надпись с восточной мудростью — типа, «расслабься и живи спокойно» или «глядя на небо, думай о порядке мира». Очень быстро она заметила, что ее пациенты — а работала она тогда в доме престарелых — стали настороженно коситься на нее. Через некоторое время очередной пожилой мужчина уперся подслеповатым взглядом в татуировку, потом пристально посмотрел в глаза медсестре и спросил: «Но ведь вы же очень молодая. Вы же не могли ТАМ быть».
Татуировка выглядела именно так, как выглядели номера, наколотые на руках заключенных концлагерей. Полуслепой пенсионер видел в татуировке именно то, что он привык видеть в таких татуировках, когда был молодым. И эта страшная волна воспоминаний, внезапно накрывавшая его в палате, прямо перед очередным уколом или завтраком — в присутствии медсестры, которой он привык доверять и которую воспринимал как единственного близкого человека, который всегда рядом, вызвала у него панику. Медсестра смутилась и сказала что-то про иероглифы. Через неделю тот же вопрос задала ей еще одна пациентка. Потом третья. Каждый раз — с испугом и дрожью в голосе. После четвертого вопроса моя соседка пошла к хирургу и свела татуировку.
Когда турист из России приезжает в Германию, один из первых искренних вопросов, который возникает у него, — почему здесь на каждом углу натыкаешься на воспоминания о Холокосте? Почему перед тем или другим домом в землю вмонтированы квадратные бронзовые таблички 10 на 10 сантиметров, на которых выбиты имена и даты жизни евреев, живших в этом доме, обстоятельства их депортации и убийства? Почему здесь стоят указатели, напоминающие, что в больнице за углом в период с 1934 по 1935 год было убито столько-то психически больных детей? Почему у здания Рейхстага в землю вмонтированы поставленные на ребро черные неровные плиты, на гранях которых выбиты имена депутатов, убитых нацистами в 1933 году? Почему немцы стараются к каждому зданию прикрепить информационный ярлык: вот здесь, именно здесь, в этом доме, на втором этаже жила семья сапожника, у них было трое детей, самому младшему полгода, старшей десять, их выселили, отправили в Треблинку, погибли все.
Русский турист хочет бежать от этого ужаса, он не готов к нему, он привык к помпезным гранитным доскам с именами работавших в шарашках авиаконструкторов (о шарашках на доске ни слова), с именами председателей ЦИК, чьи жены во время их работы в кабинете напротив Кремля гнили в лагерях (о женах — опять ни слова), на худой конец — к памятникам солдатам-победителям с массовым упоминанием цифры 20 млн. Но к тому, что у каждой жертвы из 20 млн есть имя, и есть судьба, и жертва оставила после себя вдову или вдовца, или мать, или детей-сирот, да просто что вот есть сгоревшая в бомбежке кукла, и она сгорела не полностью, а только наполовину, а ее хозяйка — смешливая или грустная, белокурая, темноволосая, рыжая девочка — обуглилась, обуглилась совсем, а вот кукла нет — вот к этому потоку реальности русский турист не привык. В Германии он хочет фахверка и пива, он приехал сюда отдыхать, он заплатил честные деньги, он готов в качестве развлечения посмотреть на место, где был бункер Гитлера, но в информационный центр Холокоста, размещенный в 100 метрах от бункера, он не пойдет — «да ну, что там смотреть-то».
А там письма, настоящие письма, которые дети писали в вагонах, в которых их везли на смерть. Писали и выбрасывали в щели между досками — и эти письма можно сегодня прочитать, и их нужно прочитать, ведь это единственное, что можно сделать сегодня для памяти убитых детей.
Русского туриста нельзя винить за его инстинктивное возмущение немецким способом переживания памяти об убитых. Русский турист воспитан в эстетике обезличенных памятников с громкими, но, увы, совершенно бессодержательными фразами. «Вечная слава павшим в боях за свободу и независимость социалистической родины», — написано на воротах при входе в центральный советский мемориал в берлинском Трептов-парке. «Родина не забудет своих героев», — написано на другой плите. На десятках стел вокруг парка размещены (на русском и немецком языках) не менее общие цитаты из речей Иосифа Сталина.
Я не могу представить себе ничего менее информативного, чем советский мемориал в Трептов-парке. Конечно, я понимаю, что его создатели исходили из того, что даже мысль о том, что кому-то надо пояснять, что стоит за фразами, словно списанными из безликой речи замполита (да наверняка они списаны из речи какого-то вождя), — это кощунство. Но сегодня эти надписи, обрамленные символикой страны, распавшейся в один момент с громким треском и оставившей после себя память о сотнях и тысячах своих преступлений, смотрятся в лучшем случае жалко. Они должны убедить современных людей в том, что стоящий с мечом солдат — это непререкаемая святыня, а люди знают, что помимо победы над нацизмом этот же солдат олицетворяет собой и довоенную сделку с Гитлером, и террор против собственного населения, и установление диктаторских режимов в десятке европейских стран, и десятилетия слежки, пыток, политических убийств, подавления свободы, попрания самых элементарных прав человека. Это не вина солдата, это его беда.
Хорошо, когда тот, кто смотрит на памятник, знает о том, что история сложна. Но подавляющее большинство людей, приходящих сегодня в Трептов-парк, видят только гигантского бетонного истукана, окруженного стелами с цитатами из речей одного из самых кровавых политиков ХХ века.
 Если бы мне нужно было рассказать о подвиге советского солдата и о том, чем была для него война, я бы просто показал фотографию Епистиньи Степановой, снятую фотографом Казминым в 1961 году в Ростове-на-Дону. Старая изможденная женщина с морщинистым лицом и потухшим взглядом сидит у деревянного стола во дворе своего деревенского дома. На ней пестрое бедное платье и белый с узором платок. В руках у нее фотокарточка молодого мужчины в форме. Это один из семи ее сыновей, погибших на фронте. Я не знаю, есть ли какая-то еще фотография, которая может больше рассказать кому угодно о том, чем была Вторая мировая война для миллионов людей к востоку от польско-советской границы. Представьте себе. Семь сыновей. Каждый рожден в муках. Каждый выращен. Болел, ранил палец на рыбалке, дрался. Гулял с девками, в конце концов, обещал матери скоро жениться и одарить ее внуками. Починить крыльцо обещал, когда уходил на войну. Вот вернусь — обязательно починю, мать. Немца разобьем — и починю. Писал письма. Потом пришла похоронка.
Если бы мне нужно было рассказать о подвиге советского солдата и о том, чем была для него война, я бы просто показал фотографию Епистиньи Степановой, снятую фотографом Казминым в 1961 году в Ростове-на-Дону. Старая изможденная женщина с морщинистым лицом и потухшим взглядом сидит у деревянного стола во дворе своего деревенского дома. На ней пестрое бедное платье и белый с узором платок. В руках у нее фотокарточка молодого мужчины в форме. Это один из семи ее сыновей, погибших на фронте. Я не знаю, есть ли какая-то еще фотография, которая может больше рассказать кому угодно о том, чем была Вторая мировая война для миллионов людей к востоку от польско-советской границы. Представьте себе. Семь сыновей. Каждый рожден в муках. Каждый выращен. Болел, ранил палец на рыбалке, дрался. Гулял с девками, в конце концов, обещал матери скоро жениться и одарить ее внуками. Починить крыльцо обещал, когда уходил на войну. Вот вернусь — обязательно починю, мать. Немца разобьем — и починю. Писал письма. Потом пришла похоронка.
Советская традиция установки памятников была логична и понятна: больше, бравурнее, выше, улыбающийся солдат-победитель, в крайнем случае — скорбящая мать, но почти всегда при поддержке живого сына. Эта модель работала, пока звенели трубы и били барабаны. В отсутствии музыкальной поддержки (да и даже на излете этой поддержки) памятники обернулись пустотой, за которыми стоит невербализируемая святыня, но не стоят конкретные люди. Советские школьники первыми почувствовали это на свой лад и стали вставлять в героические песни композиторов из тылового фронта непристойные слова. А жители прибалтийских республик расчехлили флаги со свастиками — свято место пусто не бывает.
И все ничего, но только память о войне — это до сих пор живая кровавая рана, сидящая в душе каждого русского. Трагедия не пережита, она превращена в невербализируемую святыню, боль долгие годы заглушалась звуком фанфар, а как фанфары стихли, осталась не только боль, но и полное непонимание того, что болит, почему и как. Невербализируемая святыня на то и невербализируема, что никакие разговоры о ней вести нельзя — ведь раз неясно, где проходят границы святыни, то неясно и то, какой аспект дискуссии является осквернением священных устоев. И даже не нужно вспоминать бравого ветерана Михаила Кононова, который, как выяснилось, участвовал в карательной операции по сожжению прибалтийского хутора, в результате которой заживо была сожжена крестьянка на девятом месяце беременности. Вспомните лучше, известно ли вам имя генерал-майора Ивана Алексеевича Суслопарова? Если нет, то запишите, что этот человек 7 мая подписал во французском Реймсе вместе с представителями США акт о безоговорочной капитуляции Германии. Но история Второй мировой войны в СССР и России — это религия без священных текстов. И в этой религии есть место для веры в коварное подписание капитуляции союзниками без участия СССР — и потому генерал-майор Суслопаров выпадает из истории, оставляя в ней лишь безликую капитуляцию.
История любой войны — это не история танковых клиньев и мудрых речей полководцев на военном совете. Это история Урии, отправленного царем Давидом на смерть по мелкому половому поводу. Это история обмороженных ног Пьера Безухова. Это история крестьянина, у которого сгорает амбар с зерном, а на следующий день на постой в деревню приходит голодный батальон — и даже неважно чей. Это история колонн беженцев, по которым стреляют свои и чужие, которые умирают от холода и голода, которые нападают друг на друга ради куска еды, которые отбиваются от колонн и замерзают, переживают насилие, умирают. Это история насилия в отношении и своего, и чужого народа. История беженцев, которым посчастливилось уплыть из страны, где на них началась охота, но понявших, что ни один иностранный порт их не принимает. История детей, собранных врагом по деревням и угнанных на работу. История бессудных расстрелов, история ковровых бомбежек, история изнасилований, грабежей и убийств.
Такая история не может быть рассказана только через колонки цифр. Человеческий мозг не в силах представить себе ни 20 млн, ни 6 млн убитых. Это слишком много, это чудовищно много. Человек отказывается переваривать такую информацию. Если ее не подкрепить рассказами о реальных человеческих судьбах — слушатель рано или поздно пойдет вразнос и станет бравировать своим отрицанием истории.
Цифры пугают и пролетают мимо ушей. Но человек отлично понимает ужас трагедии, когда, взяв стакан кофе на вынос, идет по солнечной улице и видит дом, а рядом с ним в брусчатке — вмонтированные блестящие таблички с именами: папа 35 лет, мама 28 лет, дети 3, 5 и 8 лет. Депортированы и убиты. Человек прекрасно понимает, что это такое — быть выгнанным из своей квартиры. Да мне же самому 35! — восклицает прохожий. Черно-белые фотокарточки хроники оживают, они становятся живыми соседями и друзьями. Любой человек прекрасно понимает весь ужас жизни матери, получавшей одну повестку о гибели сына за другой — и так до последнего сына! — когда видит фотографию полуживой-полумертвой старухи, вцепившейся в самое дорогое, что у нее осталось: фотографию еще живого сына. Фотографию, которую она хранит шестнадцать лет после войны. Да у меня же самого сын! — кричит человек. Один! Я бы сошел с ума, если бы с ним что-то случилось. А тут…
Вторая мировая война с ее миллионами убитых была не войной ландскнехтов, перерезавших друг другу глотки вручную. Это была война, где смерть становилась отстраненной повседневностью. Во время ночной бомбежки граждане пережидали налет в бомбоубежище, а когда возвращались домой, то обнаруживали, что соседи не успели выйти из дома и их накрыло налетом. Почтальон приносил письма каждый день — и иногда среди них были похоронки. Евреев депортировали из их квартир между делом — и они не возвращались.
Смерть была рядом и далеко, смерть стала тканью повседневности, смерть обволакивала, как воздух или моросящий дождь. К смерти привыкали. И смерть всегда переживали лично — не надо забывать, что большинство погибших на той войне были гражданские, их не хоронили с салютом, и им не ставили ни крестов, ни пирамидок со звездой.
Именно эта отстраненность насилия, делегирование насилия государственным структурам (в Германии отлично выраженное через фразу: «Это не я, это все Гитлер!») и заставляет сегодня тех людей, которые не хотят, чтобы этот ужас снова повторился, вспоминать каждую судьбу, затронутую войной. Именно поэтому немцы вывешивают на своих домах объявления: «В ближайшее воскресенье во дворе дома мы вспоминаем Константина Штайна и Марию Штайн, живших на третьем этаже и убитых в 1941 году в Освенциме». Никто из этих немцев не жил тогда в этом доме. Многие еще даже не родились. Кто-то из них вообще не немец, а приехал в Германию из Украины или Марокко. Но они собираются и вспоминают людей — таких же, как они, — трагически убитых в мясорубке ХХ века. Просто потому, что только так и именно так можно остаться человеком в городе, где совсем недавно убивали людей.