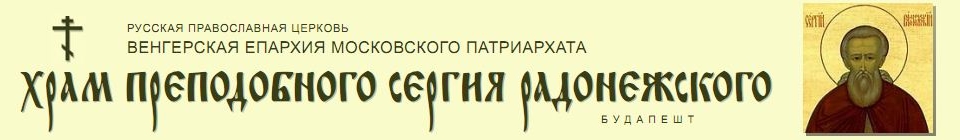ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА
ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
ПЛАН ПРОЕЗДА
О ПРИХОДЕ
СЛОВО НАСТОЯТЕЛЯ
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ
ХРИСТИАНСТВО
В ВЕНГРИИ
ПРАВОЛСЛАВНАЯ
МИССИЯ В МИРЕ
НАШЕ ПРОШЛОЕ
И НАСТОЯЩЕЕ
МУЧЕНИКИ
И ИСПОВЕДНИКИ
ХРИСТИАНСКИЕ ПРАВЕДНИКИ
ЦЕРКОВЬ
И ГОСУДАРСТВО
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
ВОСПОМИНАНИЯ
И ДНЕВНИКИ
ВСЕХ ИХ СОЗДАЛ БОГ
СОВЕТЫ ВРАЧА
БИБЛИОТЕКА
СТРАНИЦА РЕГЕНТА
ФОТОГАЛЕРЕИ
ДУХОВЕНСТВО ХРАМА
НАШИ РЕКВИЗИТЫ
КОНТАКТЫ
ССЫЛКИ
СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА ПРАВОСЛАВНОГО БЛАГОЧЕСТИЯ.
Глава: ОБЩЕСТВО И ПРИРОДА
Н.Е.Пестов
Глава 27
ПРИРОДА
Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь.
Пс. 18, 2
И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма.
Быт. 1, 31
Душа от созерцания видимой красоты приходит в состояние чувства Бога, живого и дивного во всем.
Схиархимандрит Софроний
Все видимое нами — вся природа — есть Божие творение. Смотря на ее бесконечно разнообразные формы и постигая до какой-то степени управляющие ею законы, христианин не может не чувствовать через нее беспредельную премудрость, величие и могущество ее Творца, не может не изумляться совершенству и красоте Его творения.
Как пишет епископ Михаил Таврический:
«Стоит мне с любовью, с цельным чувством и сознанием, по-детски, no-Божьи, не разбегаясь во все стороны, а всецело отдаваясь природе, вглядеться в нее, то каждый листок деревца, каждый крохотный цветочек, каждая былинка, травка вдруг засияют для меня такой лучезарной райской красотой, обдаст меня таким теплом и светом жизни, таким изяществом каждого изгиба и тона, что мне откроется воочию рай...
Это значит, что мы проникли внутрь того, что ежедневно видели извне; мы своим цельным чувством ощутили ту цельную жизнь природы, которую постоянно дробим своим рассеянным внешним сознанием; в созерцании любви отдались на миг беззаветно вот этому деревцу, этому цветку вместо того, чтобы эгоистически думать, нельзя ли срубить одно и сорвать другой...
Природа осталась та же, но мы вошли в тот просветленный божественный мир ее бытия и ее форм, который заключен в ней же, но которого мы по рассеянности и грубости доселе не замечали...
Входить своим умиротворенным сердцем в то светлое и прекрасное бытие, которое проникает во все и отражается во всем, созерцать все в Боге, отказавшись от себя, — это значит идти в царство "не от мира сего".
И тогда мы смотрим на то же, на что смотрят и другие, но видим в нем тот мир, который для других пока остается скрытым.
По-видимому, в мертвом — для нас трепещет внутренняя духовная жизнь, в немом — для нас звучат небесные глаголы; в случайном и механическом — нам открывается чудный смысл и высокая разумная красота.
Можем ли представить себе, что говорил незаметный цветок — лилия — сердцу и очам Господа, когда Он всю славу Соломона повергал перед нею ниц?»
Природа так прекрасна, что по словам Н.: «Для неверующего приоткрыты райские врата — в чистом восприятии природы».
«Если только существует рай, — воскликнула одна неверующая девушка, — он должен быть похож на эти места».
А вот как воспринимал природу странник, овладевший искусством творения непрестанной молитвы.
«Все окружающее меня представлялось мне в восхитительном виде: деревья, травы, птицы, земля, воздух, свет – все как будто говорило мне, что существует для человека, свидетельствует любовь Божию к человеку и все молится, все воспевает славу Богу. И я понял из этого, что называется в Добротолюбии "ведением словес твари", и увидел способ, по которому можно разговаривать с творениями Божиими». Как пишет о. Павел Флоренский: «Благословляя вселенную, подвижник всюду и всегда видит в вещах знамения Божии и Божии письмена; всякое творение для него — лестница, по которой ангелы Божии нисходят в земную юдоль, все дольнее — отображение горнего».
Нежно любил природу как Божье творение старец Силуан. Он учил бережному отношению ко всему тварному, учил бояться нарушать жизнь всего того, что существует по Божьему Промыслу. В своих записках он пишет: «Дух Божий учит душу любить все живое, так что и зеленого листа на дереве она не хочет повредить и цветка полевого не хочет потоптать».
Схиархимандрит Софроний рассказывает такой случай из его жизни со старцем Силуаном:
«Старец шел посмотреть на мое жилище. В руках у нас были палки, обычные для горных мест. По обеим сторонам тропинки росли отдельные редкие кустики высокой дикой травы.
С мыслью не допустить зарастания тропинки этой травой, я ударил палкой по одному стволику около верхушки так, чтобы, надломив стволик, воспрепятствовать созрению семян. Это движение старцу показалось грубым, и он недоуменно слегка покачал головой. Я понял, что это значило, и мне стало стыдно. "Листок на дереве зеленый и ты его сорвал без нужды. Хоть это и не грех, но почему-то жалко и листик, жалко всю тварь сердцу, которое научилось любить".
Но это жаление листа на дереве или полевого цветка под ногой совмещалось в старце с самым реальным отношением ко всякой вещи в мире.
Он по-христиански сознавал, что вся тварь создана для служения человеку, и потому, когда "нужно", человек может пользоваться всем. Сам он косил сено, рубил лес, заготовлял дрова, ел рыбу».
Правда, многие из святых и подвижников удалялись от красот природы, уходили в тесные затворы, в дикие пустыни, выбирали кельи с окнами на пустыри и скалы и т. п.
Но это уже мера совершенных, сердце которых было соединено всецело с Господом, и ради Него они все покидали в этом видимом, вещественном мире.
Про это так пишет старец Силуан: «Душа любит земную красоту, любит она небо и солнце, любит прекрасные сады и море, и реки, леса и луга; любит душа и музыку, и все это земное услаждает душу.
Но когда познает она и возлюбит Господа нашего Иисуса Христа, тогда не хочет уже смотреть на этот мир, хотя он и прекрасен, а непрестанно влечется в тот мир, где живет Господь».
Приложение к главе 27-
Белая веточка яблон
Белая веточка яблони
В чаше небес голубой!
Божье художество явлено
Тихой твоей красотой.
Тысячи лет было б мало мне
Налюбоваться тобой,
Белая веточка яблони
В чаше небес голубой.
Пчелы в бутонах расправленных
Реют с органной хвалой
Над белорозовой яблоней
В чаше небес голубой
Тайных молитв не ослаблю я.
Молятся вместе со мной
Белые веточки яблони
В чаше небес голубой.
Славься, Художник прославленный!
Славься моею душой
С белыми ветками яблони
В чаше небес голубой.
А. С.
Глава 28
ЖИВОТНЫЙ МИР
Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку.
Быт. 2, 19
Особое место в природе занимает животный мир. Животные, по Священному Писанию, имеют, как и человек, душу, но, конечно, отличную от души человека (Быт. 1:30).
И о животных также заботится Бог: «Не пять ли малых птиц продаются за два ассария? и ни одна из них не забыта у Бога» (Лк. 12:6)? — говорил Господь.
В животных вложена своя доля разума. А у высших животных, как например у собаки, имеются и такие свойства души, как самоотверженная любовь и такая преданность человеку, которая не останавливается перед тем, чтобы отдать жизнь за человека. Животные были созданы как близкие друзья человека. В раю Господь «привел к человеку (всех животных), чтобы видеть, как он назовет их» (Быт. 2:19). Человек поставлен был «владыкою» (Быт. 1:26)над животными, но владыкою добрым, который не истреблял их и не употреблял в пищу (Быт. 1:29).
Также не было тогда на земле и взаимного истребления животных, и пищей их была лишь «зелень травная» (Быт. 1:30). У человека и животных тогда была полнота взаимного понимания.
Трагедия человека — грехопадение и смерть — не могла не отразиться и на подчиненном ему животном царстве. Началось и употребление в пищу одних животных другими, чего не было до грехопадения (Быт. 1, 30 и 9,3).
Как пишет ап. Павел: «Тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне» (Рим. 8:19-22).
Как говорит архиепископ Иоанн: "Стенание твари" есть одна только боль от потери надежды на человека и веры в него (т. е. доверия к человеку), потеря своего пути к Богу через него».
Итак, мы виноваты в растлении твари. Вместе с тем следует заметить, что наше падение несравнимо глубже падения твари. У твари нет взаимной злобы и ненависти: убийство или воровство там существуют лишь для удовлетворения голода и поддержания своей жизни. ((Здесь следует упомянуть о некоторых и довольно редких исключениях. Как человек, так и животные бывают бесноватыми. Из Евангелия мы знаем о бесах в стаде свиней. Бесноватых животных можно узнать по их особенной злобе и ярости. прим авт.))
И о животных также заботится Бог: «Не пять ли малых птиц продаются за два ассария? и ни одна из них не забыта у Бога», — говорил Господь (Лк. 12:6).
И напрасно М. Горький говорит, что «человек — это звучит гордо». В состоянии падения и греха человек нередко опускается ниже животного, и в этом может удостовериться всякий.
Вот мы видим картину, как бьет человек лошадь, не могущую сдвинуть с места перегруженный воз. Послушная, кроткая лошадь выбивается из сил, но не может выполнить приказания. А владыка ее — человек — с дикой злобой и скверной руганью бьет ее беспощадно по голове и глазам. Отвратительная сцена, в которой нечем гордиться человеку.
Я помню также другую сцену. На берег реки пришли купаться молодые люди 14-15 лет с собакой —-умным, кротким животным. Юноши стали издеваться над собакой, заставляя ее проделывать разные штуки, дергали за хвост, обманывали посулами пищи и т. д.
Все это они делали крайне непристойно, с криками и сквернословием и нельзя было без горечи смотреть на них.
Собака же держалась кротко, была абсолютно послушна всем приказаниям юношей и смотрела на них ясными, доверчивыми, преданными глазами. Здесь также была картина позора человека и сохранения достоинства твари.
По закону связи животного мира с человеком, с искуплением и обновлением последнего должно наступить и освобождение твари.
Ап. Павел пишет, что тварь пребывает в «надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих» (Рим. 8:20-21).
На примере святых мы видим новые взаимоотношения с тварью. В их лице человек вновь становится другом твари и изливает на нее свою любовь.
«У милующего, — пишет прп. Исаак Сириянин, — горит сердце о всем творении — о человеках, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари... он ежечасно со слезами приносит о них молитву, чтобы сохранились и очистились, а также и об естестве пресмыкающихся молится с великою жалостью, какая без меры возбуждается в сердце его по уподоблении в сем Богу.
Приближается ли смиренный к хищным зверям, и, едва только обратит взор свой на них, укрощается свирепость их; они подходят к нему как к своему владыке, поникают своими главами, лижут руки и ноги его, потому что ощутили от него то благоухание, которое исходило от Адама до его преступления, когда звери собраны были к Адаму и нарекал он их имена в раю.
Это отнято было у нас; но обновил и даровал нам это опять пришествием Своим Иисус. Этим и помазано благоухание человеческого рода».
С любовью относился ко всему живому старец Силуан. Он пишет:
«Дух Божий учит душу любить все живое. Один раз без нужды я убил муху, и она, бедная, ползала по земле больная, с выпавшими внутренностями, и трое суток я плакал за свою жестокость к твари и до сих пор все помню этот случай.
Как-то у меня в магазине (старец был на послушании эконома) завелись летучие мыши, и я облил их кипятком и снова пролил много слез из-за этого, и с тех пор никогда не обижал я тварь».
О египетских старцах-пустынниках рассказывается, что они осторожно обходили встретившееся им на дороге насекомое, чтобы не раздавить его.
Про авву Феофана Египетского есть такой рассказ: «Выходя по ночам в пустыню, он был окружен толпами зверей. Черпая воду из своего колодца, он поил их. Очевидным свидетельством тому было то, что вокруг его келии виднелось много следов буйволов, антилоп и диких ослов».
Прп. Сергий и прп. Серафим кормили хлебом своих друзей — медведей. Особенно поучительной является история льва прп. Герасима (память 4 марта ст. стиля).
Прп. Герасим, сжалившись над диким львом, вынул из его лапы занозу, промыл и завязал ее. Лев с тех пор не отходил от преподобного, слушал его во всем и питался только растительной пищей. Когда преподобный умер, лев не мог более жить и от скорби умер на могиле преподобного.
С особой нежностью относился к животным католический святой Франциск Ассизский. Он устраивал гнезда горлицам. Червячков на пути поднимал и относил в сторону. Он не мог видеть барашков, ведомых на убой, и старался их приобрести, чтобы спасти им жизнь.
Так выполняли святые и праведники повеление Господа: «Проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк. 16:15). Они вели эту проповедь своим милостивым отношением к живой твари. Они несли «Благую весть» животным своею любовью к ним и этим восстанавливали ту дружбу, которая была у них с человеком до грехопадения. Под влиянием обновленного человеческого духа обновлялся и дух животных. Они теряли свою свирепость, делались послушными человеку и переставали наносить вред другим животным.
Царства Божия святые достигали еще на земле. Поэтому и животный мир около них становился таким, каким он будет в Небесном Царствии.
Тогда, по словам пророка Исаии: «Волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи» (Ис. 11:6-8).
Что именно таким будет некогда животный мир, говорит следующая картина из жизни прп. Павла Обнорского.
Когда прп. Сергий Нуромский пришел посетить последнего в его пустыне, то увидел, что «стая птиц вилась около чудного подвижника; мелкие пташки сидели на голове и на плечах старца, и он кормил их из рук.
Тут же стоял медведь, ожидая себе пищи от пустынника; лисицы, зайцы и другие звери бегали вокруг, не враждуя между собою и не боясь медведя.
Это было отображение жизни невинного Адама в Эдеме, владычество человека над тварью, которая вместе с нами стенает от нашего грехопадения и ожидает освобождения в свободу славы чад Божиих».
Животные препоручены нам Богом как наши друзья и наши слуги. Вместе с тем мы их старые должники. И они ждут от нас избавления, ждут проповеди любви. Ее оказывать мы им должны по заповеди Христа.
Не будем же пренебрегать и этой заповедью Господа — этим мы приобретем верных нам и любящих друзей, которых — кто знает? — может быть, мы встретим потом и в том мире.
Любовь льва к преподобному была сильнее желания жить. Такая любовь не достойна ли Божия Царствия? Можно думать — не напрасно икону прп. Герасима рисуют вместе с его львом.
В заключение следует, однако, сделать и предупреждение. У иных людей тварь — животное (преимущественно собаки и кошки) — становится кумиром, вытесняет из их сердца все то, что должно преимущественно занимать сердце христианина. Вот это так описывает старец Силуан: «Есть люди, которые привязываются к животным, и гладят их, и ласкают, и разговаривают с ними, и оставили они любовь Божию.
Душа, познавшая Господа, всегда в любви и страхе предстоит Ему, и как возможно при этом любить, и гладить, и говорить со скотом, с кошками, собаками? Неразумно так делать.
Животному и скотине дай пищу и не бей их, в этом милость к ним человека. К животным не должно иметь пристрастия, но должно только иметь сердце, милующее всякую тварь.
Звери, скотина и всякое животное есть земля, а мы не должны привязываться к земле, но "всем сердцем, всею душою, всем разумением" (Мф. 22:37) любить Господа, Его Пречистую Матерь, нашу Заступницу, святых, благоговеть перед ними».